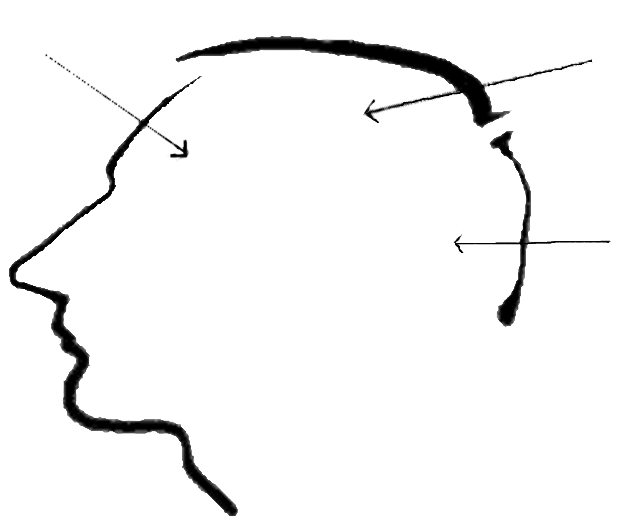 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 5. В заграничной командировке. 1880-81 |
 |
|
Теперь все дело стало за получением заграничного паспорта и главное дело, за получением денег, а для последнего нужно было получить ассигновку из Казначейства. Стало быть, нужно было подождать. Этим временем мы воспользовались для того, чтобы списаться со Струмами относительно возможности Антонине Николаевне с семьей поселиться у них на время моего выезда из России. Сделали и это без особого затруднения и в конце декабря выехали из Москвы, везя с собой кормилицу Кати, а через день я выехал обратно в Москву по случаю смерти Басова, о чем писал раньше. Приехавши в Москву, я остановился у Дмитрия Владимировича Соколовского, жившего в Глини-щенском переулке на Тверской, через день или два отдал свой паспорт для прописки в участке, в скором времени получил и ассигновку на получение денег и получил их довольно много, более 600 рублей, потому что моя командировка состоялась с 1-го декабря, да денег дали за три месяца вперед, всего кажется 670 рублей. С этой стороны задержки не было, но возник курьез там, где его нельзя было ожидать: в полицейском участке пропал мой паспорт (указ об отставке), а вместе с ним пропал письмо-водитель участковой конторы. Сперва хотели было повернуть дело так, что будто бы мой паспорт не сдавался в участок и, стало быть, я сам его потерял, но домовой управляющий указал на расписку письмоводителя в получении моего документа. Тут уже нельзя было выдумывать отговорки, а надо было сознаться в том, что произошло. Пристав участка (майор Коровин), которому оставалось лишь три месяца до получения пенсии, мог быть исключен из службы за нерадение, и он принял все меры к тому, чтобы мне выдали копию с моего документа из Правления Университета; назавтра вечером я получил уведом-ление, чтобы на следующий день в 8 часов утра я был в Правлении по важному для меня делу. Я прибыл, и мне вручили копию, по форме написанную и засвидетельствованную вместо утраченной. А письмоводитель участка так и пропал, и может еще и теперь кто-нибудь скрывается в России под моим именем. Пристав остался на своем месте. Дело не разглашалось. Получен и заграничный документ; можно было ехать. Мой давний знакомый, о котором я ходатайствовал перед Сумароковым о назначении его на какую-нибудь должность, предложил мне даровой билет 2-го класса до Варшавы, но через Петербург, я конечно взял его, а в Петербурге должен был обменять на другой, по правилам. Этот знакомый был Филарет Егорович Миловидов, брат Варвары Егоровны и Зинаиды Егоровны, впоследствии умерший в Павловской больнице от чахотки. Провожали меня с Николаевского вокзала кроме Антона Николаевича еще братья Отрадинские, Сумароков и еще кто-то, но кто именно, не припомню, кажется Соколовский.
Ни в Петербурге, ни в Варшаве, в которой я остановился в Саксонской гостинице, не случилось ничего, что стоило бы записывать, кроме того разве, что маленькие улицы, прилегающие к этой гостинице, как например улица Коцебу, содержались тогда до такой степени грязно и неопрятно, что когда я шел по ней, то меня вырвало раза два, а еще то, что на вокзале мы разговорились с жандармом, и он оказался моим земляком из Ряжского уезда, и оба почему-то обрадовались, нашлись у нас и общеизвестные знакомые места, например Песочня, Уколово и др. Вечером сел в заграничный поезд и в 6 часов утра был в Берлине. Вот тут явилось сожаление о том, что я не знаком с немецким языком и не знаком с тамошними свычаями и обычаями. Ехал я дорогой с одним русским профессором из Одессы, чахлым человеком, который для поправления здоровья ехал на юг Франции. Его фамилия была Колосов или Голосов; он всю дорогу кашлял и видимо страдал немало; в немецком языке он был не сильнее меня. Мы не знали как подозвать извозчика. Оказалось, что это делает швейцар, вызывая извозчиков по нумерам, ярлыки которых находятся у него на проволочном кольце. Он спросил нас только о том, нужны ли для нас дрожки или другой какой-нибудь экипаж. Мы думали, что немецкие дрожки должны быть очень маленькие и спросили каждый для себя отдельные дрожки. Но каково же было наше удивление, когда вместо дрожек подъехали две четырехместные кареты, куда можно было сесть обоим со всем нашим багажом. По первому разу и наказание за незнание языка. Остановились мы на улице под Липами (Unter den Linden), 731, “Петербургская гостиница”. Холод был порядочный; мы спросили себе самовар, но нам принесли какое-то подобие кувшина, под которым горел спирт в спиртовой лампочке, но хорошо и то, что можно было согреться. Спал я под какой-то периной тоже на перине, но все же было холодно, а несчастный Колосов прокашлял всю ночь. На утро он не выходил из своего номера, хотел отдохнуть, чтобы дальше пуститься в путь, а я побродил немного по улице, не зная за что приняться. Так как время у меня было свободное, то я решился пойти и подальше. Всюду меня поражала в Берлине замечательная чистота, точно все приготовились к празднику по нашему обычаю; даже кухарки, идущие с корзинками в руках на базар или в лавку, были прилично причесаны без всяких платков на голове, как делают наши бабы, что у них всегда зябнет голова. А берлинские городовые? Эти прямо сорвались с выставки магазинов, торгующих готовой одеждой. Он весь вычищен, причесан, выбрит, кроме усов, плечистый, затянутый в талье. А конные городовые, стоящие на перекрестке улиц, представляют собой какие-то не живые существа, а памятники какому-нибудь герою - ни он сам, ни конь его совершенно не живые, а умершие в известной позе и так и окаменевшие существа. На этой же улице Unter den Linden стоит королевский дворец, а почти против него главная Hauptwacht, перед которой по утрам играет очень хороший оркестр и собирается масса народа послушать музыку. Музыканты стоят полукругом, а к ним лицом, стало быть, спиной к публике стояло при мне какое-то существо военного свойства. Пока я слушал музыку я несколько раз думал, что это за существо, живой это человек или кукла? В это время был довольно порядочный холодный ветер, который раздувал усы и фалды этого существа, и только тогда я убедился, что это живое существо, когда, по окончании музыки, оно, сделавши ответный знак под козырек музыкантам, пошло в сторону. Замечательная дрессировка, лучше чем у легавых собак. Подобную же дрессировку потом я наблюдал в Берлине повсюду, но в первый день я был поражен ею, потому и записываю. Я не знал, где мне найти клинику профессора Лангенбека, знал, что это где-то в центре города, недалеко от университета. Университет я скоро нашел, но где же клиника? спросить ни у кого не решался, не владея немецкой речью. Но тут как-то попался мне под руку молодой человек, видимо семитского происхождения и заговорил со мной по-русски. Я обрадовался русской речи, поговорил немного с ним, и он предложил мне познакомиться с человеком, который жил в Москве, служил там тутором в каком-то лицее, а теперь состоит студентом-филологом. Мы отправились к нему, застали его дома, потому что он был болен. Оказалось, что бывший тутор Катковского лицея, г. Феттерт, довольно свободно и почти правильно говорящий по-русски, по происхождению швейцарец, человек, видимо, порядочный и, во всяком случае, благонамеренный. Он спросил мой адрес и назавтра был уже у меня; мы с ним разговорились о цели моего приезда в Берлин; я сказал, конечно, что я сюда командирован, объявил с какой целью, и он взялся познакомить меня с Лангенбеком через своего земляка, служащего у Лангенбека ординатором доктора и профессора Кронлейна. Назавтра я нашел клинику Лангенбека, в которой швейцар сказал мне, что профессора сейчас еще нет, что он скоро прибудет. Я согласился ждать. Минут через двадцать входит с улицы какой-то угрюмый старик в цилиндре, в пальто, застегнутым на все пуговицы и приподнятым воротником; фигура шла прямо и на поклоны сидевших в швейцарской отвечала всем одно и тоже: “Morgen? Morgen!”, и прошла в одну из боковых дверей, где скрылась, а вслед за ней и швейцар. Я догадался, что это и был сам Лангенбек, тогдашнее светило германской хирургии. Вышедший швейцар подтвердил мою догадку и указал рукой, чтобы идти к нему. Я вошел, раскланялся и желая заговорить с ним начал так: “Herr Professor!” Но едва он услыхал мои слова, как лицо его сделалось злобным и он отвернулся от меня. Я не знал, что мне делать. Неужели, думал я, он обиделся на то, что я назвал его профессором? Ведь у нас в России это самое почетное звание. Мысль эта быстро промелькнула в голове. Попробую назову его Лангенбеком, и сказал: “Herr Langenbeck!” Еще того хуже - он ушел в следующую комнату, не сказавши мне ни слова, и мне оставалось лишь удалиться, что я и сделал. Назавтра я познакомился с Кронлейном через Феттера и по мере рассказа моего о встрече с Лангенбеком лица обоих моих собеседников становились все мрачнее и мрачнее (Феттер переводил мою речь Крейилайну), а когда я сказал что назвал его по фамилии - он даже вскочил восклицая: ”ist es moglich?!” Оказалось, что я сделал по немецкому обычаю в высокой степени нетактичный поступок уже тем, что назвал его общим именем Herr Professor, а еще более нетактично и даже обидно было то, что я назвал его по фамилии. Но кто же он: если он не Langenbeck и не профессор? Он - высший тайный советник медицины, т.е. Obergeheim medizinisch Rat und Exsellenz и превосходительство. Оказалось, по разъяснению: во всей Германии только двое служащих врачей носят титул Exsellenz, один гражданский, другой военный. Я, идя к такой особе, должен был знать ее общественное положение и величать ее не иначе, как по титулу. Кронлейн все-таки взялся уладить это дело, а мне советовал запомнить его титул и не сбиться; он даже записал мне его я постарался заучить и заучил, но только у меня сперва все выходило heilig (святой) вместо geheim (тайный), однако заучил и через два дня пошел. Опять та же фигура, то же “morgen” и т.д. Я вошел вслед за ним в комнату со словами: Obergeheim medizinisch Rat протянул ему руку со своей визитной карточкой; он точно увидал дорогого ему приятеля, взял карточку, прочитал и на мою просьбу разрешить мне посещать его клинику, с радостью заговорил: “O! Bitte!” И так примирение наше состоялось. Но я не вынес из его клиники ничего путного, ничего полезного. Сам он уже мало оперировал, а все предоставлял Кренлейну и другим помощникам, сам же делал лишь краткие пояснения болезненного процесса и таким невнятным голосом, так шамкал, что и самые настоящие немцы едва ли могли понять все, что он говорил, поэтому и слушателей у него было очень мало. Аудитория его была громадная, мест много, но света очень мало; окна аудитории и, стало быть, операционного зала выходили в узкую улицу, застроенную высокими домами. Что особенно меня поразило здесь, так это то, что немцы считали себя пионерами противогнилостного способа лечения, как и оперирования, а на самом деле вели еще дело по-старому, они лишь накладывали повязку по способу Листера, т.е. клали <....> , шесть слоев марли, всякий раз пересчитывая слои, протектив и еще слои и все это увязывали бинтом марлевым же, словом укутывали рану, по-видимому, не заботясь о том, чем они укутывали ее, каков этот укутывающий материал, т.е. делали так, как делал в Москве И. Н. Новацкий, стало быть, в чем же преимущество их перед русскими хирургами? Разве в том только, что они немцы, что они не только много говорят, но даже кричат о себе. Прежде чем приехать сюда, я прочитал о противогнилостном способе лечения все, что мне было подручно; всюду немцы восхваляли себя, кричали: “вот де до чего мы додумались, а никто раньше нас не понял этого”, а на деле в самом сердце-то Германии сами профессора остаются такими же, какие и были, упорно держатся за старое, с чем они сроднились и выросли; иногда они делали такие выводы, какие им только мог - федры - стало быть это непреложно, верно. Даже был такой случай. Тот же Exsellenz, Лангенбек оперировал однажды у больной меланотическую саркому грудной железы, рану операционную промывали крепким раствором карболовой кислоты. На следующий день у больной появились какие-то неясные общие припадки в виде головной боли, тошноты и упадка сердечной деятельности, а особенно резко выступило потемнение мочи. К вечеру она даже стала черной. И какое же объяснение всего этого. Exsellenz объявио, что он находит, что у больной есть еще меланотическая же саркома в почках, что она окрасила и мочу, а об остальном, об общих явлениях - ни слова. а на самом деле все было гораздо проще: больную отравили карболовой кислотой. Ведь если бы говорил так наш какой-нибудь захудалый врач, где-нибудь в отдаленном уездном городке, ему это было бы позволительно, но когда такое заключение делается профессором, считающим себя столпом науки - вряд ли извинительно. А мы-то прихвостни немецкие, приученные плясать под их дудочку, только умиляемся под их влиянием и приходим в восторг от каждого их слова. Дураки мы в этом отношении. Раньше и я был такой же дурак, но когда побывал в Германии, насмотрелся на знаменитых ученых (я говорю о представителях хирургии) и стал умнее и нахожу, что у них самое главное - это самохвальство и самохваление. Этим они превзошли всех. А почему же мы такие, какие есть? Да потому, что мы слишком робки и застенчивы и второе - воспитаны на тех же немецких книжках, теми же немцами или их слепыми последователями. Мы боимся, что над нами станут смеяться те, которых мы считаем выше себя, что есть люди высокой научной марки, которым мы не годимся и на подметки, которые за один раз отобьют у нас охоту разговаривать на будущее время. У нас нет немецкой смелости и наглости. Кроме Лангенбека я ежедневно посещал еще клинику <....> помещавшуюся в знаменитой больнице с французским именем “Charite”; больница эта новая; откуда и при каких условиях ей дано ее имя я не мог узнать, да и по правде сказать особенно-то и не старался об этом. Знаю только то, что все там не новое, в больших размерах, не богатое; кажется, что она содержится на счет города. В этой “Charite” ведет свои работы Вырхов. Здесь же создалось и его целлюлярное учение (целлюлярная патология). Больница занимает громадное пространство, на котором расположены все клиники. Я сказал, что посещал Варделебера. У него все велось по старому, только вместо корпии и разных тряпочек и свертков из них употреблялась юта. Это что-то похожее на кокосовую мочалку, только из более нежных волокон, беловато-желтого цвета. Из этого материала заготов-лено было к каждой лекции множество круглых лепешек, величиной с чайное блюдечко и толщиной пальца в два. Лепешки эти складывались тут же в аудитории в высокие столбы и назывались chlor-zinc-juta, что указывало на то, что эта юта вымачивалась предварительно в растворе хлористого цинка. О каких-либо приемах для обеззараживания, которых мы придерживаемся теперь, у Варделебена и в помине не было. Видимо и он верил в свою юту и в хлористый цинк и на том успокоился. Этот приземистый толстенький старик с вырази-тельным взглядом и орлиным носом (не из евреев ли он?) всю свою жизнь проработал в своем отделении в Шарите и так усердно, что ему заживо поставили в саду этой больницы памятник - бюст его на пьедестале. Он был знаком с Басовым, изредка переписывался с ним, и когда я начал понимать получше немецкую речь, однажды спросил меня: знаю ли я московского профессора Басова, от которого он осенью получил письмо; в этом письме Басов уведомлял его, что весной предстоящего года он намерен приехать в Германию, научиться у немцев антисептике вместе с одним молодым врачом, который в скором времени приедет в Германию. Когда я объяснил ему, что Басова уже нет на свете, он очень пожалел о нем, заметивши, что они вместе когда-то учились в Париже и при этом неизбежная фраза, что все на свете не вечно. Когда ко мне зашел Феттер, мы с ним договорились, что пойдем искать квартиру, потому что гостиница очень дорого. Квартиру мы скоро нашли на Fridrichstrasse, N5 в угловом доме на берегу реки Шпрее, в 3-м, а по нашему 4-м этаже. Комната эта выходила окнами на реку, была довольно большая, светлая, конечно чистая, без отопления, но с особой печкой, мебелью и даже пианино. Цена ей в месяц с прислугой и кипятком для чая - 24 марки. Если считать, что цена на марки была тогда 46 коп., то это значит, что комната стоила в месяц всего 11 рублей 4 копейки. Ни в Москве, ни в каком другом городе России за такую цену было бы невозможно найти подобную комнату с прислугой, кипятком и хорошей мебелью. А вот они, немцы нашли возможным, сдавать комнату за такую цену, причем конечно и домохозяин и квартиронаниматель получали свои барыши. Феттер заходил ко мне не раз и бывал доволен, когда я предлагал ему стакан чая, да еще с ромом; он, должно быть, полюбил его еще в Москве, а до Москвы вряд ли когда-либо и пивал его в своей Швейцарии. Бродя по улице под Липами я как-то услыхал русскую речь и узнал, что тут есть кофейня Вауэр или Браун и зашел в нее. Здесь оказалась масса народа и между ними несколько русских. Они все читали русские газеты, особенно “Русские ведомости”. Здесь я познакомился с одним очень молодым юношей, окончившим курс Московской Духовной Академии Якушкой Смирновым, который потом стал священником в Дрездене, а потом и в Париже. Этот Якушка готовился здесь сделаться препо-давателем греческого языка в Петербургской Духовной Акаде-мии, а больше слонялся без дела. Потом я скажу об нем еще несколько слов. Здесь же я познакомился с природным москвичом Николаем Алексеевичем Каблуковым, который стал впоследствии профес-сором Политической экономии и статистики в Московском университете и Власием Тимофеевичем Судейкиным, который изучал здесь финансовую науку, по возвращении в Петербург стал какой-то важной шишкой в Министерстве Финансов. Все это был народ молодой, веселый, жизнерадостный. А где они теперь все? Что стало с Якушкой-попом парижским, что сталось с Судейкиным, портрет которого я видел в каком-то иллюс-трированном журнале, где он изображен чуть ли не в министерском мундире. Много, очень много ушло народа за последние сорок лет, а вновь (прибавилось) таких, с которыми можно бы было сойтись, как сходился с теми, очень мало. Стал ли народ мало податлив на знакомства, или я стал более разборчив и осмотрителен - не знаю. Знаю только то, что чем дольше живу, тем количество знакомых у меня уменьшается, а не увеличивается. А ведь было когда-то время, что в Новый год или в Рождество я делал по 10-12 праздничных визитов знакомым, с которыми был наиболее близок. Теперь же в Москве не осталось никого. Одних уж нет, а те далече. Если бы какая-нибудь неведомая сила перенесла меня теперь из Барановки, где пишу эти строки, в Москву, я очутился бы в ней, как в первобытном лесу: ни одного знакомого человека. Недели через три после переезда на квартиру в Берлине зашел ко мне Феттер и говорит: “ Помните ли Вы наш разговор о том, что Вы должны будете переменять Ваше мнение на немцев, после того как проживете здесь некоторое время? Я пред-сказывал Вам это.” “Да, - говорю,- помню, и Вы оказались правы. Но я думаю, что не все же такие, каких я видел и, кроме того, я не знаю язык на котором они говорят.” - “Это-то и спасает Вас от окончательного разочарования , иначе бы Вы сказали совсем другое. Знаете ли Вы, что мои земляки, знающие пруссаков, говорят, что после войны с Францией и объединения всех немцев под главенством Пруссии, пруссаки стали самой грубой, самой развращенной нацией во всем мире. Война со своей победой так вскружила им головы, что они теперь все поголовно стали бредить наяву - думают, что они все еще живут в военное время и на всех людей, кроме немцев, смотрят как на побежденных ими. А эти женщины, это самые продажные особы. Я не знаю, во всем Берлине найдется ли хотя бы сотня женщин и взрослых девиц, которых нельзя бы было купить за деньги на что угодно. А Вам еще не приходилось видеть на улице сцены, которым место лишь на скотном дворе. Если не видели, то скоро увидите, благо надвигается весна.” И действительно, пророчество его сбылось; дня через 3-4 я увидел такую сцену, не только описывать, но и называть которую по имени невозможно на бумаге. Она была бы уместнее на скотном дворе или в стаде, а отнюдь не на улице большого европейского города. Прав был Феттер, десять раз прав. Прежние патриархальные и идиллические нравы у нем-цев сохранились лишь в семействах пасторов и цирюльников-стариков; остальное все развратилось, стало ското-подобным, напыщенным, самоуверенным. Так изменилась нация в течение десяти лет со времени Седана. Однажды пришлось мне быть на публичной лекции профессора Дюбуа-Реймона; он хотя и с французской фамилией, но закоренелый немец, давно уже служащий в Берлинском университете; он читал лекцию о переходе некоторых приз-наков и свойств животных из поколения в поколение и тут нашел возможным указать на то, что те же явления в немецком народе, которые проявляются теперь, они были и раньше в нем, но были последние времена лишь придавлены силой обстоя-тельств, а теперь, когда эти обстоятельства устранились, они выплыли наружу; теперь, когда народ получил сознание своего достоинства, великие способности великого народа разовьются в такой степени, что германский народ станет первым во всем мире и ему покорятся все народы. Это восхваление, сказанное с кафедры вызвало аплодисменты; да иначе и быть не могло, потому что это было во вкусе публики. Для иллюстрации нравов тогдашнего времени (1880-85г.г.) я приведу замечательную подпись, которую я видел в Берлинском университете, а именно на той кафедре, с которой читал политико-экономию проф. Вагэсер, на стороне, обращенной к слушателям, написано печатными крупными буквами предостережение о том, что бы слушатели сами себя оберегали от карманных воров (Taschendieb). На что это указывает? С одной стороны на то, что университетское преподавание свободно и доступно для всех, даже для карманных воров, а с другой, что и между слушателями могут быть люди, соблазняющиеся чужим карманом и готовые его обревизовать, несмотря на свое положение студента. Каждый, внесенный в число студентов университета, получал книжечку, как бы матрикул, в который вносятся его имя, отмечается, что он внес такую-то плату за слушание лекций, внес плату за место в аудитории, за гвоздь для шляпы, за гвоздь для пальто, не отмечается только, что он внес плату за вход в сортир, потому что эта плата берется при входе туда, стало быть, кто чаще посещает это учреждение, тот больше и платит. Налог соответственно требованию. Пятого марта по нашему календарю в германских университетах кончается зимний семестр и университеты закрываются, но клиники, составляющие отчасти и городские больницы, продолжают функционировать. Ввиду этого я поехал из Берлина в Halle, куда стремился еще будучи в Москве. Это стремление было вызвано слухами о клинике Volkmann‘a, о которой написано очень много, в том числе и им самим выпущен целый фолиант под заглавием “Blitzagezurchirurgie”. Переезд в Галле занял часов около шести по железной дороге. Галле это старинный городок, в нем была когда-то крепость, не знаю для защиты от каких врагов, вероятно соседей. Следы этой крепости оставались до самого последнего времени; в крепости же помещались и университетские учреждения, в том числе и хирургическая клиника, а под нею, как раз под операционным залом - анатомический театр и склад трупов. По приезде в Галле я отправился сразу искать квартиру и нашел ее довольно скоро, благодаря тому, что студенты разъехались на каникулы. Квартира моя была в новой части города близь клиник, состояла из одной комнаты в два окна на двор и стоила 20 марок в месяц. За стеной у меня жил русский немец, впоследствии ставший профессором хирургии в Киеве, доктор Ф.К.Борнгаут. Мы с ним, конечно, познакомились, но не подружились, как с Якушкой Смирновым уже потому, что он все же был немец в душе, хотя и воспитывался в России, кажется в Дерпте. Мы вместе с ним бывали на лекциях Volkmann‘a. Прежде, чем идти на лекцию, я сделал ему визит, надевши для этого случая фрак, который у меня был с собой. Фолькманн жил в новой части города в своем довольно обширном доме, устроенном на подобие наших дач. Сам он был рыжий, очень напоминавший сапож-ковского банкира М. М. Коринфского, только потоньше его, такой же подвижный, подчас циничный и не заметно, чтобы обладавший особыми знаниями. Но о нем я еще буду говорить впоследствии. Галле резко разделяется на старую и новую часть города. Первая небольшая, действительно старая, состоит из нескольких очень узких улиц, до такой степени узких, что два экипажа по улице разъехаться не могут, поэтому в каждой улице езда дозволяется лишь в одну сторону. По обе стороны улицы стоят высокие 3-4-х этажные здания с ходами прямо на улицу. Никаких дворов нет; все дома слились в один сплошной дом, с высокой черепичной крышей. Из одной стороны улицы в окна противоположной стороны протянуты веревки, на которых висит белье, сушится. Мостовые всюду покаты к середине улицы, по которой постоянно течет из домов мыльная вода и поднимается легкий пар. Это знак того, что домовитая немка занимается стиркой белья. Солнце вряд ли когда-нибудь заглядывает в окна этих домов. Такова старая часть города в пределах крепости. Она очень небольшая. Вокруг нее разрослась новая часть из современных домов. На площади, не знаю для какой цели, стоит старинная красная башня в форме столба или обелиска, а вокруг нее масса всякого мусора и навоза. Здесь же стоит небольшая колонка-памятник павшим русским воинам во время сражения с наполеоновскими войсками. В силу той дружбы, которая существовала между Россией и Германией и которая привела русские войска сюда, мне думается, что можно бы было поставить павшим русским воинам памятник и получше этого и, во всяком случае, держать это место почище, не заваливать навозом. Недалеко от памятника находится солеваренный завод, на котором выпаривается что-то очень много поваренной соли, получаемой из воды, которая тут же бьет прямо из почвы. Этот соляной источник сторонний; его собственники все горожане; каждому дозволяется брать из него несколько ведер воды в сутки. Новая часть города охватывает всю старую и состоит из мелких европейских домов, построенных с большими проме-жутками друг от друга в предположении, что они, промежутки, будут потом засажены деревьями. Не знаю как теперь там, а при мне не было посажено еще ни одного деревца. Клинические здания построены все из булыжного камня, обтесанного, плотно пригнанного, довольно большие, выкра-шенные в светло-желтый цвет, напоминающий цвет французского золота. Все они построены после войны, на те деньги, которые взяли с французов. Между клиническими зданиями тоже большие промежутки, оставленные вероятно для разбивки садов. Несмотря на обилие камня в Германии, я не видел в Галле ни одного аршина мостовой; нашей невылазной грязи здесь на улице тоже нет, благодаря песчаной почве. Приехал я сюда к вечеру и меня поразил особый звук во всех улицах, от которого не было возможности куда-либо укрыться: это был звук от деревянной обуви, устроенной наподобие больничных туфель, без задников, которые при ходьбе издают этот звук вследствие постукивания по каменному тротуару, на иных вновь приезжих он наводил такую тоску, что вызывал даже слезы. На следующий день я был уже в клинике, познакомился, при посредстве Борнгаупта с ординаторами: Обест, Колликер, Генцмерг, Краске. В заведывании каждого ординатора находится особое отделение такое же, как и у нас в России. Всех отделений четыре. Они устроены по барачной системе, по два этажа каждое. В нижних этажах помещаются больные, а про верхние этажи мне ничего не говорили, кроме того что там квартиры орди-наторов. Все бараки помощью коридоров связаны между собой, а в центре свод и вход с улицы, помещение для амбулатории и операционный зал с аудиторией и рядом кабинет профессора. Прием больных ежедневный, громадный с массой хирур-гических больных; это объясняется тем, что в Галле в ближай-шей окружности находится до 70 фабрик и заводов, здесь же и вокзал железной дороги, у которого перекрещиваются несколько линий. Как бы немцы ни были аккуратны во время механической работы, но и у них бывают несчастные случаи в обращении с орудиями производства. Вот эти то случаи все попадают в хирургическую клинику, где и оперируются. Кроме того, заводско-больничное население дает массу заболеваний: ни раньше, ни после я не видал такого множества болезней костей, как здесь, что Volkmann объяснял дурным питанием рабочих. Но я должен сказать, что наши фабричные рабочие питаются не лучше немецких, однако же мы не наблюдаем у них столько заболеваний. Причина лежит в чем-то другом. Здесь же между больными я увидал и несколько человек из России, по преиму-ществу с юга, приехавших сюда оперироваться благодаря славе, пущенной про Volkmann‘a, как знаменитого оператора на костях. Как будто бы это что-то особенное (ампутации, резекции и т. д.). Приезжие по большей части еврейки, они поддались рекламе. Volkmann считается провозвестником антисептики в Германии, но как же она у него проводиться и какие дает результаты? Вся она сводится на то, что в изобилии употреб-ляется 5% и 3% карболовый раствор и для инструментов и для обмываний операционного поля, для последнего в употреб-лении еще и песочное мыло, т.е. мыло содержащее песок. Это недурное применение потому что очень мноие, особенно пришлые больные являются до того грязными, что иначе привести их в порядок, хотя и не полный, невозможно иначе, как скоблить и мыть щетками с песком. А пока такой субъект не разделся, можно думать, что он очень чист: на нем белый воротничок, белые нарукавники, какой-нибудь особый галстучек. А спросите его, когда он мылся? Окажется не мылся несколько лет, чего наши рабочие и крестьяне допустить не могут. Если не в бане, то в печи, а моются еженедельно. Чем же чище немец? При мне были введены у Volkmann‘a особые медные полосы с рукоятками, наподобие тех, какие у нас употребляются коннозаводчиками для сбирания потной пены с лошадей тотчас после упражнения в беге, когда этой пены набирается особенно много. Этими полосами очищают там грязь и всякую нечисть, годами накопившуюся на теле. Бывали случаи, когда грязь снимали с больных целыми пластами. Кроме такого мытья и карболовой кислоты ничего другого для достижения антисептики не употреблялось; не делалось никаких приспособлений, чтобы в рану не попало что-нибудь извне неудобное; сам оператор, вероятно, считал себя не способным внести какую либо заразу, а между тем зараза-то, как гниющий материал, была здесь в изобилии, например те пальто из полотна, в которые облекались помощники, нередко были залиты кровью и тотчас не отдавались в мытье, а тут же вешались для сушки в зале, и к следующему дню до такой степени ссыхались, что их нужно было раздирать: сопри-касающиеся поверхности ссохлись. Эти пальто отдавались в мытье что-то очень редко. Затем замечательное приспособление для удаления разных отнятых частей тела, выпущенного гноя и т.п. Нужно сказать, что для именитых посетителей (гостей) в операционной зале отведены и назначены особые места: одна сторона залы представляет полукругло-выпуклую стену сплошь состоящую из окон. Под этими то окнами и построены скамьи для гостей. Этот ряд скамей отделен от остального зала особым барьером, вероятно, чтобы не беспокоили гостей толпящиеся вокруг операционного стола; по концам этого барьера находятся особые люки с деревянными крышками шириной около 12 вершков; в эти люки бросается все то, что в зале не нужно, а куда оно поступает дальше не знаю; вероятно сортируется. Однажды, ради любопытства, я заглянул под такую крышку и увидал, что стены этого люка сплошь покрыты какими-то зловонными выращениями, грибами; они выросли в слои толщиной в несколько вершков. Когда я рассматривал эти разращения подошел ко мне доктор Борнгаупт и спросил, что я рассматриваю. Я конечно сказал, что трудно добиться антисептики при соседстве такой грязи. В это же время у меня за спиной очутился откуда-то взявшийся сам тайный советник Фолькманн и спросил, что служит темой нашего разговора. Борнгаупт хотел сказать что-то иное, но я поднял крышку люка и показал ему на то, что там выросло. Притворно или не притворно, но он выразил изумление, велел принести ему железную лопату и сам своими руками счистил все разращения в обоих люках, сделавши при этом внушение старшему ординатору (Oberst‘y), чтобы он каждый день смотрел за чистотою люков. Все это произошло на глазах всех ординаторов и какими же взглядами они осаждали меня после всего этого. Случаи появления рожи у оперированных, бывали там нередки и хотя в своей книге Фолькманн говорит, что отныне за всякий случай рожи или септкэмии должен быть ответ-ственнен врач допустивший его, но такие случаи там в каждом бараке и как только появлялись, так больные с ним куда-то исчезали. Это меня очень заинтересовало, и я как -то спросил у Борнгаупта, что это значит, что рожистые и флегмонозные больные исчезают из клиники. Он с какой-то улыбочкой ответил мне, что такие больные обыкновенно уезжают домой. Не будь этой улыбки я бы поверил ему, но она навела меня на сомнение, которое я вознамерился разрешить как-нибудь. И вот, наконец лето, когда с ординаторами было выпито не одно ведро пива, они пригласили меня в свои квартиры в верхнем этаже клиник, тут-то я и нашел разгадку интересовавших меня исчезновений: я увидал здесь многих из тех больных, про которых говорили, что они уехали домой и в каком ужасном виде я увидал их? Оказалось, что это были наверху, так называемые компро-метирующие палаты, в которые сносились те больные, показывать которых нежелательно приезжим; им нужно показывать больных только с хорошим течением выздоровления per primam. Вот она немецкая честность, она забралась даже в хирур-гическую клинику, где люди должны учиться делу, а тут обман на каждом шагу и то же самовозвеличивание, которым прониклись немцы все вообще. А до какой степени небрежно относились там к больным, показывает следующий случай. Поступил в клиники больной с обширными множественными язвами на обоих голенях; язвы были настолько застарелы, что совершенно утратили свой характер: может быть они были туберкулезные, а может быть люис. Он просил избавить его от язв. Тайный советник, рассмотревши его, сказал, что одна нога у него совсем не годится, нужно ампутировать ее, а другая, может быть, еще и послужит, потому что на ней есть еще мостики здоровой кожи, на которых могут вырасти свежие молодые рубцы. Больной согласился. Назавтра его ампутировали. Но каково же было удивление, когда сняли повязку с удаленной голени и оказалось, что ампутировали ту ногу, которую признали возможным вылечить, а больному оставили ту ногу, на которую не было уже никакой надежды. Пока заживала ампутационная рана, язвы начали тщательно мыть и перевязывать и добились того, что все язвы закрылись и больной выздоровел. Для чего же было ампутировать голень, которая была поражена меньше, чем та, которую оставили больному. А что бы сказали в России, в Москве, если бы в какой-нибудь больнице произошло подобное? Кроме лежащих в клинике больных, сюда же прино-сились нередко больные для операции из частных лечебниц профессора; таких лечебниц у него в городе было несколько, и больные из них после операции тотчас же уносились обратно, и судьба их дальнейшая вполне зависела от Фолькманна. Все перевязки после операции делались в плате без соблюдения антисептических предосторожностей. Замечательно то, что пища для всех больных была одна и та же - вареные бобы (фасоль), размятые в кашу с салом, приносились в огромной посудине (миске), бралось оттуда сиделкой в количестве 2-3-х ложек столовых в миску больного, разводилось это бульоном и кушанье готово. Это называлось гороховый суп - Erbsensuppe. Другого кушанья мне не пришлось там видеть; может быть его и не было. И я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь высказал недовольство таким кушаньем или однообразием его. Настолько все были дрессированы, а платили за себя по 100 марок в месяц. Это была цена немалая в то время. За бедных платило общество к которому они принад-лежали или хозяева фабрик. Замечательно в Галле то, что кладбище здесь находится почти в самом центре города; раньше оно может быть было и в стороне, но во, всяком случае, поблизости от него, а теперь-то в центре и продолжает функционировать; оно, конечно, содер-жится в большом порядке, и все погребальные процессии совершаются одними и теми же лицами, одетыми в средневековые фраки, треугольные шляпы и короткие штаны (до колен). Мне говорили, что эти погребальщики - остатки тех, которые спаслись от бывшей здесь когда-то чумы, уложившей все население города. Они одни могут заниматься погребением, это их привилегия, составляющая доход. Я не видал, что бы умершего везли на катафалке, как у нас; его всегда несут четверо дюжих молодцев, одетых совершенно одинаково. Никакого пения, никаких причитаний при этом нет. Нет даже и музыки, которую любят немцы. Я не сказал еще о том, чем я питался, т.е. обедал в Галле всегда в одной гостинице, при которой был и общий стол, к которому сходились как живущие в этой гостинице, так и приходящие, в числе последних бывали ежедневно и мы с Борнгауптом. Обедало зараз не менее 35-40 человек, бывали здесь и профессора университета почему-либо оставшиеся без семейств на летнее время. За стойкой стоял всегда метр д`отель с величественным видом разливавший суп в тарелки, которые разносились важными на вид лакеями. Здесь было замечательное правило, а именно то, что если кто-либо из обычных посетителей опаздывал к обеду, всегда подававшемуся точно из минуты в минуту в одно и то же время, тот не получал 2-е кушанье, т.е. какие-нибудь пирожки или что-либо подобное. Все подчинялись этому правилу беспрекословно. В праздничные дни не доз-волялось спрашивать пиво, а нужно было брать вино. Иногда, по окончании обеда мы с Борнгауптом оставались в зале, свободно беседуя о разных делах, по большей части о том, что делалось в клинике Фолькманна, причем я не стеснялся в выражениях, иногда чисто российских не в пользу Фолькманна. И вот однажды, когда мы остались лишь двое, вошли в залу наши соотечественники муж и жена и спросили себе обед. Скоро мы узнали, что это были наши, потому что они говорили по-русски. Тут, конечно, нужно было несколько сдержать откровенную, свободную речь. Но, все же, вошедший не утерпел и на какое-то мое выражение воскликнул: “Так, так их шельмецов, валяйте хорошенько!” Оказалось, что это был доктор Дмитрий Андреевич Муринов из Петербурга, командированный для чего-то от Московского Министерства за границу, он уже пробыл вне России около года, по преимуществу в Австрии и Италии, а теперь приехал сюда поучиться у немцев. Я ведь говорил, что обаяние немецкое было сильно в России. Мы разговорились. Муринов говорил, что он приехал поучиться у немцев, а я ему заметил, что и я ехал тоже учиться, только цели то конечные у нас разные: он хочет учиться как надо делать, а я учусь тому, как не надо делать. Это привело его в восторг, равно и жену его, которая тут же была. С этого момента у нас завязалось знакомство, и на следующий день они уже перебрались на квартиру по соседству с нами. Я часто бывал у них, они, видимо, были люди зажиточные или получали хорошие деньги от своего министерства. Своих средств у него не могло быть, потому что он был по происхождению сын сельского священника из Калужской губернии, а у нее может быть, что-нибудь и было, потому думаю так, что он был малый не промах и хотя отъявленный революционер, но знал очень хорошо, что с деньгами гораздо лучше, чем без них и, если женился на Наталье Юльевне Нольде, так не потому только, что она была баронесса, и выходя замуж за бурсака, конечно, утрачивала свой баронский титул, а, вероятно, у нее было еще что-нибудь существенное. О платонической любви в этом браке не могло быть и речи: не было никаких данных подозревать платонизм. Правда, что она была образована, знала довольно хорошо французский, немецкий, английский и итальянский языки, много читала по истории, была бойка на речь, но все же было в ней что-то такое, что не влекло, а скорее отталкивало от нее. Она любила выставлять напоказ свою начитанность и знание истории, особенно истории революции во Франции и в Германии, любила поспорить по этому поводу и на меня смотрела, как на москвича закоренелого в монархических идеях, говорила, что для меня Москва со своим Охотным рядом - это все. Конечно, она с восторгом читала статьи Салтыкова (Щедрина), в которых он высмеивал русских недо-умков. При более близком знакомстве постепенно выяснилось, что она происходила от остзейейских баронов Нольде, в роде которых было, что-то роковое: все члены этой фамилии по жен-ской линии были сумасшедшие, а потом, когда мы встретились с Дмитрием Андреевичем во время коронации Николая II-го, он сообщил мне, что его Наталья Юльевна уже не один год, как находится в больнице для душевнобольных, стало быть, и ее не миновала эта чаша. Вот почему она не внушала к себе никакой симпатии, но тогда она все же была довольно бойкая особа, говорливая, начитанная. У них было двое детей, которые на время их поездки за границу, жили у его отца в деревне. Отец, хотя был иерей, давал деньги за проценты. Сам Дмитрий Андреевич, хотя был республиканец и революционер, однако же любил и чины и ордена и помимо службы в морском госпитале, служил врачом при дворе вел. кн. Константина Николаевича и в то же время где-то на пригородной фабрике. Как он успевал выполнять свои обязанности на этих местах и насколько успешно, не знаю. Ему лучше знать. Не могу решить и того, как могут совмещаться в одном человеке такие свойства: республиканство и служба придворная; непременно одно из них должно быть по меньшей мере неискренне, чтобы не сказать побольше. Научными вопросами мы с ним не занимались; сразу видно было, что его тянуло больше всего дело житейское и желание быть знакомым с выдающимися лицами. После Галле мы с ним жили и в Гейдельберге и в Лейпциге, даже в Страсбурге и в Париже в одной и той же гостинице; часто виделись, вместе обедали, вместе бывали в госпиталях и, стало быть, достаточно узнали друг друга. С Дмитрием Андреевичем произошел однажды ориги-нальный случай. Он с женой занимал квартиру в две комнаты и, конечно, они не затем приехали, чтобы постоянно сидеть дома, а часто отлучались, иногда на целый день. Хозяйка квартиры пользовалась этим и, когда они уходили, спрашивала их надолго ли они уходят, и если они говорили, что уходят надолго, она обращала их комнаты в сушилку для белья, развешивая его по всем направлениям и растворяя все окна. Как-то вышло однажды так, что они возвратились раньше срока и увидали, что их квартира занята мокрым бельем. Конечно, сказали хозяйке, что это с ее стороны самоуправство: раз она сдала комнаты, так не может уже ими пользоваться для своих удобств. Она извинилась и сказала, что больше этого не будет, но через два дня та же история повторилась, и опять извинения и обещание, что это уже в последний раз. Но не утерпело немецкое сердце: хозяйка еще раз соблазнилась и повесила белья больше прежнего, предполагая почему-то, что Муриновы вернутся не скоро, а они вернулись через час по уходе. Тут уже сам Муринов вступился в дело, а до тех пор он предоставлял вести переговоры жене, и потребовал, что бы к нему самого квартирохозяина. Тот не замедлил явиться и заявил, что квартире ничего не сделается, если за отсутствием жильцов, в ней посохнет чистое белье, и что-то еще в том же роде,. и закончил какой-то дерзостью, которую не смог вынести Муринов и со всего размаха ударил немца по щеке, немец не ожидал этого, остолбенел, а Муринов повторил рукоприкладство по тому же месту; немец скрылся. Тут только Муринов понял, что он совершил уголовный проступок. Что ему делать теперь? Я в это время жил уже на другой квартире, и вот они, супруги решили идти ко мне советоваться, что им делать. Мой квартирохозяин был почтовый чиновник, вроде нашего разъездного чиновника, сопро-вождающего почту по железной дороге и не знал хорошенько как поступить в этом случае, чтобы не отсиживать где-нибудь по приговору судьи в случае, если немец пожалуется на обидчика. Но на счастье Муринова в соседней со мной комнате жил студент юрист, который узнавши в чем дело, посоветовал идти сейчас же к мировому судье, не дожидаясь подачи прошения на них и заявить обо всем этом деле. Так они и сделали. Мировой судья жил поблизости от меня. Муриновы отправились к нему, изложивши все дело от начала до конца со всеми подробностями и судья решил, чтобы обидчик заплатил штраф в 15 марок; такое постановление сделано потому, что обиженный не являлся, прошения не подавал, а обидчик сам признавал себя виновным и от ответственности не уклонялся. Конечно штраф был уплачен тотчас же, и дело окончилось. Обиженный уже не мог начинать дело, и Муриновы встретились с ним на крыльце камеры судьи, куда он шел, очевидно, чтобы подать прошение, и если бы подал, то тогда и результаты были бы другие. После этого случая белье в квартире Муриновых больше не сушилось. Обиженный немец величал себя каким-то фабрикантом и очень гордился своим званием, и ему-то побил физиономию заезжий русский. Галле отстоит от Лейпцига в расстоянии всего одного часа пути по железной дороге в обыкновенном поезде и в 1/2 часа на курьерском. Поэтому я часто делал так, что прослушавши лекцию Фолькманна в Галле, отправлялся в Лейпциг на лекцию профессора Тирша (Thiersch),который прославился своими пластическими операциями на разных частях тела, в том числе и на половых органах. Этот Тирш уже глубокий старик, лет за 70, зять известного химика Либиха (Либиховский бульон), до сих пор оперирует еще сам. Хлороформ у него дается не так как у нас, а льется на маску из фланели постоянной тонкой струей, и потому вокруг маски сделали желобок, по которому излишек хлороформа стекает в бутылку, поставленную около больного. Затраты его на каждого больного огромные, такие какие мы не затратим и на 4-5 больных. Наблюдение за пульсом больного поручается тому же лицу, которое дает и хлороформ, но заявлению этого лица относительно падения пульса мало придается значения. При мне там был такой случай. Оперировался больной с новообразованием на верхней челюсти. Маска для хлоро-формирования была залита кровью и хлороформом. Хлорофор-матор заявил, что пульс больного ослабел. Тирш только взглянул на больного и продолжал ковырять. Хлороформатор вновь заявил, что пульс стал очень слаб, со стороны Триша никакого внимания. Наконец еще заявление (нет пульса), никакого пульса. Тут Триш остановился посмотрел на больного, пощупал его пульс, послушал дыхание и наконец сказал; “Да, он уже умер. Уберите его прочь и давайте следующего!”, а следующий стоял у двери и все это видел и слышал и, по удалении умершего, немедленно лег на его место, как будто ничего особенного перед тем не случилось. Не думаю, чтобы в России нашелся такой субъект, который выполнил бы подобную штуку. Бывая у Триша много раз, я вынес убеждение, что никто из известных мне хирургов не делал такого множества пластических операций, как он, недаром за ним установилась такая репутация. Я видел у него одного служителя при клинике, которому он поправил расщепленное твердое небо, заячью губу и поставил искусственную гортань с частью дыхательного горла, сделанную из тонких металлических пластинок. Замечательно, что субъект начал говорить, хотя тенором, но довольно внятно и с ним можно было разговаривать; у него же была сделана и часть уретры вследствие врожденной <....>. Клиника Тирша тоже новая, тоже по типу бараков, тоже сделанная на фран-цузские деньги; но в ней нет компроментирующих палат, как в Галле, а все что есть в ней - все можете видеть во всякое время и хорошее и дурное. Зато и директор клиники - Тирш старик, а не самохвал, как Фолькманн или наш Рейнер, что был в Петербурге, в какой-то больнице. Переехавши совсем в Лейпциг, я вскорости познакомился с двумя нашими соотечественниками, с доктором Василием Ивановичем Кузьминым и доктором Константином Влади-славовичем Янковским. Оба были молодцы при клинике Склифосовского, с ним приехали и в Москву, конечно, не затем, чтобы двигать науку, а главным образом за тем, чтобы расширять свои намерения, о чем они не стесняясь говорили. Оба они были из Нижегородской гимназии, учились вместе там и недолюбливали друг друга теперь. Янковский был сын инженера, а В.И. Кузьмин, кажется, или из купцов или из крупных мещан. Янковский любил деньги настолько, на сколько можно из них что-либо сделать, хотя бы купить хороших сигар; Кузьмин, чтобы они у него были, чтобы он имел сознание, что они у него есть, и потому собирать их, и собирать побольше, каким бы то ни было путем. Янковский не отказывал себе ни в чем, ни в питье, ни в еде, ни даже в лакомстве, в прихотях. Кузьмин напротив, отказывал себе во всем и едучи за границу сделал себе запас печеных яиц на три недели, чтобы не есть в ресторанах. Янковский был самолюбив, у Кузьмина не было и следов самолюбия, и понятия о чести у них расходились в противо-положные стороны. Чтобы дать ясное понятие о Кузьмине, будущем профессоре Московского университета, расскажу нашу встречу с ними обоими. Кузьмин приехал в Лейпциг из Копенгагена с бывшего там съезда врачей; я встретился с ним у Тирша, и Янковский познакомил нас. Оказалось, что Кузьмин уже слышал обо мне в Москве и понаслышке не считал меня опасным для себя конкурентом. Пообедавши в ресторане, Кузьмин спросил Янковского - куда он теперь пойдет, и узнавши, что он идет домой и будет там пить чай, напросился к нему, говоря, что вот уже три недели как он выехал из России и за все это время не пил чай ни разу (как будто бы его нельзя было достать - сколько угодно в большом городе, как Берлин или Копенгаген). Янковский согласился, пригласивши меня еще раньше. И тут, за чаем В.И. Кузьмин изложил свою программу в достижении своей цели, чтобы получить какое-либо место. Подкупить, говорил он, можно каждого человека, только надо знать чем подкупать: одного деньгами, другого вещами, третьего лестью, игрушками детям или какими-нибудь мелочами. Нет такого человека, который не поддается на подкуп. Тут я невольно вспомнил М.И. Дружинина и собачонку Мишку, страдающую от зубной боли. Во всяком случае нужно ходить и ходить к тому лицу, от которого зависит получение места. Я на все это сказал ему, что если Вы придете к нему, и он Вам откажет в просьбе, неужели Вы и тогда пойдете к нему вторично? “Не только вторично, говорит, но и третично”. “Тогда, - говорю я, - оно не велит принимать Вас, впускать Вас в квартиру” . “Тогда я подкуплю прислугу”. “После этого он может просто напросто плюнуть Вам в лицо”. “Ну, это еще беда невелика, всегда есть платок в кармане, которым можно утереться и сказать обидчику, что он напрасно так оскорблял меня, а на завтра прислать к нему жену все с той же просьбой.” Дальше у меня возражений не было, я признал себя побежденным, только лишь спросил его всегда ли он проводил свои дела таким же путем. “Да, - говорит В.И., - всегда так проводил и буду так проводить впредь. Ведь и в Святом писании сказано: просите и дастся Вам, толщите (дверь) и отверзится”. Даже и Св.писание применил к своей программе. Ну, конечно, такой человек добьется своего идеала в Москве, не привыкшей к подобным людям. “Мне лишь бы получить профессуру, - говорил он, - хотя бы место Новацкого (Госпитальная клиника), я и то был бы доволен”. Еще бы не быть довольным местом профессора с отличной казенной квартирой на Страстном бульваре, т.е. в центре города. Так мы с ним и не сошлись в своих программах и он еще больше убедился, что я ему не страшен и не стану ему поперек дороги. Когда он ушел от Янковского, тогда этот последний рассказал мне, что Кузьмин будучи в гимназии раза два исключался из нее за ростовщичество, которое состояло в том, что он давал сотоварищам стальное перо и требовал, чтобы тот завтра отдал ему два; за подержание карандаша, перочинного ножа, листа бумаги и других вещей, нужных ученикам в их школьном обиходе, за все полагались проценты и немалые. Даже дешевые учебники можно было купить у него же. Вот за все это его и исключали два раза из гимназии, но все же он кончил в ней, и поступил в военно-медицинскую Академию. Как он вел себя там он не говорил, но только известно, что он не служил в военной службе, как другие врачи по окончании курса школы, а пристроился каким-то лицом у Склифосовского, тогдашнего профессора Академии. Но тут скоро началась cербско-турецкая война, в которой Россия не принимала никакого участия и Кузьмин отправился на эту войну добровольцем с целью, как потом говорилось, изучения на месте военно-полевой хирургии. Там, ехавши в какой-то телеге, он вывалился из нее, что-то случилось с его ногой и он возвратился в Петербург на костылях и стал хлопотать о назначении ему пенсии из комитета о раненых и, вероятно, держась своей программы, добился своего: ему дали пенсию в 300 рублей в год без нового переосвидетельствования, т.е. как будто бы лишившемуся совсем ноги. Это было даже не по правилам Александровского Комитета о раненых. Он был настолько осторожен, что все же ходил на костылях до тех пор, пока не получил первый раз пенсию, а как только получил, тотчас же забросил костыли и даже перестал хромать. Он говорил мне при первом нашем свидании у Янковского, что эти 300 рублей, его основной фонд. Я еще раз вернусь к описанию этого человека, когда буду говорить о Москве, о съезде Всероссийском врачей, на котором читались сообщения из клиники Кузьмина и о переводе его профессором в Казань. Кроме лекций Тирша я еще занимался в институте Пталогической Академии у Конгейма и особенно его помощника профессора Вейгерта, который стал известен своими окрашен-ными микроскопическими препаратами. Действительно, пре-параты эти выходили у него замечательно отчетливыми и красивыми; я научился у него окрашивать бугорчатые отложения и так называемые гигантские клетки, про которые тогда еще не решен был спор, есть ли эта клетка необходимая принадлежность бугорка или это искусственное явление, результат обработки бугорчатой массы. И Конгейм и Вейгерт - жиды. Во время нашей пасхи 1880 г. мы с Яковом Смирновым (он же Якушка) договорились ехать в Дрезден, чтобы побывать там в русской церкви, а потом побродить по Саксонской Швейцарии. Намерение наше увенчалось успехом: мы приехали в Дрезден как раз в тот момент, когда только что начали звонить к заутрене в нашей церкви. Тотчас по приезде заняли комнату в гостинице 2-го ранга с двумя кроватями, переоделись, умылись, ибо были покрыты слоем угольной сажи и отправились в церковь. Служба уже началась; пели немцы по нотам по-русски, но русские слова были написаны немецкими буквами. Ничего, складно выходило. После обедни меня познакомил Якушка со всей семьей священника, который был хорошо знаком Якушке, пригласил нас обоих к себе разговляться. Мы направились к нему тут же по-соседству с церковью и пробыли у него часов до шести. Этот священник не был ничем замечателен, чтобы об нем записать что-нибудь. Человек, каких много на каждом шагу, разве только то и было в нем, что он хотя и русский священник, но как живущий постоянно за границей, отвык от многого русского, но русскую речь еще не забыл, хотя и немецкую вполне не усвоил. С его то семьей мы и отправились в горы. Сперва нужно было проехать по железной дороге станции 2-3, а потом на пароходе по реке Эльба и тут только попали в область своеобразных гор, сплошь состоящих из громадных песчаниковых масс, лежащих друг на друге на подобие просвир, поставленных одна на другую, что в общем давало впечатление будто бы каких-то колонн, составленных гигантами; по местам эти колонны целыми рядами расширялись и окружали большие площадки, на которых непременно было не только жилье, но даже гостиница с отдельными комнатами для туристов. В некоторых местах около гостиниц играл оркестр духовой музыки и тем самым приглашал к себе публику. Экипажей каких-нибудь я здесь за весь день не видал ни одного, все ходят пешком, а тех, которые ходить не могут, как я теперь, тех возят в креслах на колесах. Стало быть, передвижение вообще доступно всякому, и продукты в гостиницах не особенно дороги и, во всяком случае, дешевле, чем в городе, в противоположность московским Воробьевым горам, где цены на все чудовищные за отсутствием или далекостью конкуренции. Проходили мы за целый день немало и тем же путем возвратились в Дрезден и когда пришли домой, было уже темно, на улицах горели фонари. Конечно тотчас завалились спать. Так, бродя по окрестностям или осматривая достопри-мечательности города и картинные галереи, прожили мы в Дрездене всего пять дней, а когда уезжали, конечно, спросили счет. Нам принес его мальчик из конторы. Просматривая счета, я увидал в них странную вещь: в них было поставлено, что мы спросили себе 20 свечей. Я сказал мальчику, что счет не верен, пусть его исправят и отослал его. Через минуту является с тем же счетом кельнер и уверяет меня, что мы взяли 20 свечей. Я, конечно, отрицаю это. Он уходит и вместо него является оберкельнер, который твердит то же самое. Я не доволен и этим. На его место приходит <....> , т.е. владелец отеля и спрашивает нас, чем мы собственно не довольны? Я говорю ему, что мы брали не двадцать свечей, а только две, стало быть, 18 свечей записано ошибочно. “Нет, - говорит, - записано верно. Вы только сочтите. Вам зажгли две свечи, это правда. Но ведь Вас было двое и, стало быть, каждый из Вас пользовался светом от двух свечей, т.е. оба пользовались светом от четырех свечей, а четырежды пять всегда бывает двадцать, а не что-либо другое”. Как мы не толковали с ним о том, что это были все те же две свечи, которые зажгли нам в первый день, а вновь мы не спрашивали, ничего не помогало. Он твердил свое, ссылаясь на какие-то правила гостиницы, а когда мы спросили, да что это за правила, он указал нам на них: это было объявление, напечатанное так мелко и так бисерно и висело на стенах чуть ли не над самым потолком, что читать его вряд ли кому-нибудь охота. Так как время уходило бесплодно, а нам нужно было ехать, поневоле заплатили за 20 свечей и ушли. Этот счет я сохранил у себя как образец немецкого обирания и бессовестной эксплуатации проезжих. Двое из проведенных суток в Дрездене я употребил на то, что осматривал знаменитую картинную галерею, в которой в отдельном зале стоит знаменитая картина Рафаэля - Сикстин-ская мадонна, подлинник, купленный еще в старые года за 60 тыс.таллеров. Перед ней стоит постоянно деревянный диванчик, на котором всегда кто-нибудь сидит и смотрит картину. Около галереи есть еще особое строение с драгоценностями, вывезен-ными главным образом из Польши и России в то время, когда короли польские были в то же время и герцогами Саксонскими. Хотя это был и короткий срок, но, как оказалось, вполне достаточный, чтобы награбить бриллиантов, золота и алмазов на несколько миллионов рублей по тогдашним ценам. Сколько же рублей стоят эти вещи теперь? Наиболее ценные вещи, как короны, маршальские жезлы - хранятся в особом стеклянном шкафу, огороженным железным барьером, при нем находится постоянно особый служитель, наблюдающий за тем, чтобы посетители не протягивали рук к шкафу. Вход и в галерею и в сокровищницу, конечно, платный и с избытком покрывает все расходы по охране и вообще по содержанию этих учреждений. Ушел туда и мой таллер. Бродя по дорогам Саксонии, я видел там во многих местах столбы, на которых вывешена таблица с надписью “Эхо”. Это значит, если Вы желаете слышать Ваше эхо, можете кричать здесь сколько Вам угодно, но знайте, что как только Вы закричите, тотчас точно из земли вырастет немец и спросит с Вас плату за это удовольствие, возьмет с Вас деньги - 5, 10 пфенигов, а выдаст квитанцию в получении денег, а если квитанцию Вы не спросите - деньги пойдут в его пользу. Обирание идет всюду даже за то, за что они, т.е. немчура не употребили ни гроша. К характеристике немецких нравов могу привести такое обстоятельство. Когда я жил в Галле, там мне потихоньку говорили о том скандале, который разыгрался в девичьем приюте, в котором содержались и обучались девицы с юного возраста до 16-18 лет. Приют назначен для сирот, заведение закрытое, заведует им директор. И вот одна из взрослых уже девиц пожаловалась матери на то, что г. директор наказал ее без всякой причины, единственно лишь за то, что отказалась от его гнусных предложений, не желая быть в скором времени матерью ребенка, подобно другим девицам, ее товаркам по школе, причем назвала и имена этих товарок. Мать была возмущена поведением директора, пожаловалась кому-то из таких лиц, которые не одобряли поведение директора, переговорила с адвокатом и началось следствие, которое подтвердило показание и обвинение директора. И что же в результате? Ни одна из местных газет, а их в том городе три, не сказала о таком выдающемся случае ни слова. А когда я, по неопытности своей, спрашивал, почему же местные газеты об этом деле не говорят ни слова, вопрошаемые мною смотрели на меня с удивлением и говорили: да разве можно писать в газетах что-либо подобное? Ведь это значило бы порочить немецкую нацию. Выставлять на посмешище порок одного человека, как будто бы порок всего народа. Это невозможно. А если бы это случилось не в Германии, а в какой-либо другой стране, да узнали об этом немцы, чтобы они заговорили тогда? Пожалуй разговора хватило бы на несколько дней. А тут устранили по тихому обычаю директора от должности и дело с концом. Порок наказан, хотя добродетель и не торжествует. А новый директор будет только поосторожнее и не станет наказывать тех, которые не согласятся на его требования, а требования будут. В России, где не скрывают свои общественные язвы, хотя и не щеголяют ими, думаю, что не молчали бы о таком выдающемся деле, как не молчали например о деле Орловского общества огарков, сведения о котором дошли далеко, даже до Петербурга и оттуда был прислан, как доверенное лицо императ-рицы Марии генерал Олив, чтобы разобрать дело и довести до ее сведения, как он сам лично мне говорил. Но ведь тут действующими лицами были огарки, т.е. гимназисты и главным образом реалисты, а там директор, которому поручено и научное и нравственное воспитание девиц, попечительство над ними; стало быть, и ответственность его должна быть больше. В Лейпциге после обеда у меня было много свободного времени, и мы (т.е. Мурановы, Янковский и иногда Якушка) часто ходили за город, или в пригородные сады, парки, которые, конечно, хороши и содержатся в полном порядке, иногда любовались на народные увеселения, где-нибудь около города. Но что это за увеселения? Это, по нашему, какая-то породия на увеселение, в которой на первом плане стоит маршировка массы народа стройными рядами; в ней принимают участие не только дети и подростки, но даже и взрослые люди. По вечерам бывали мы в каком-то саду, где было много студентов, особенно из русских, все это питомцы русской латинской семинарии при местном университете, которые ежедневно бывали здесь, как свои люди и между ними сновал какой-то русский лакей, продававший русские папиросы разных фабрик. Видимо, ему нравилось здесь жить, а как попал он сюда, Бог его знает. Знаю, что от него всегда разило пивом. Скажу здесь, кстати, что до Лейпцига я не мог себе представить, чтобы один человек мог выпить такое огромное количество пива, какое выпивает извозчик. Однажды мы ездили смотреть памятник Наполеону (Napoleonstein). И когда были там, наш извозчик попросил дать ему пива. Мы согласились, чтобы он выпил кружку, но он с улыбкой сказал, что этого темного пива он не пьет, а желает выпить большую кружку белого пива. Мы согласились и ему вскоре прислали большую стеклянную банку, вместимостью больше 1/4 нашего ведра, в котором была жидкость на подобие нашего белого кваса; он взял ее обеими руками, поднял ко рту и не прерываясь для вздоха быстро выпил все до дна. Мы невольно ахнули, а он как ни в чем не бывало подобрал вожжи и уселся поудобнее на козлах и закурил трубку. Всю дорогу потом мы опасались, что он лопнет и зальет нас, но дорогой ничего не случилось, и мы доехали до дома без всякой остановки. Потом много пива пьют там и женщины, и в городских садах в обычае, что когда женщина приходит в такой сад, то непременно не одна, а в сопровождении мужчины, садится за столик и непременно спрашивает пива и после второй кружки обычно говорит своему спутнику, чтобы он проводил ее в клозет, что он беспрекословно исполняет и ждет ее все время, пока она остается там. Бывало, что он провожал свою даму за вечер раза 2-3, а она его никогда не провожала, он ходил один. Духовая музыка в саду вечером играет без остановки, разве только тогда и бывает остановка, когда музыкантам дают пиво. В Лейпциге много ресторанов, но самый старый из них и наиболее посещаемый, это ресторан-погребок на Brull strasse, все стены на нем зарисованы картинами из Фауста. Это произошло потому, что Гете, во время своей молодости часто бывал здесь и будто бы набрасывал программу своего знаменитого творения именно здесь. Здесь пьют не пиво, которого тут нет, а лишь вина и притом пьют невероятно много, а для закуски только сыр. Мы с Мурановыми бывали здесь и, между прочим, праздновали здесь мои именины 14 сентября 1880 года, а через несколько дней отправились в Гейдельберг. Переезд из Лейпцига до Гейдельберга довольно долгий: ехали всю ночь и часть утра, до 10 часов, остановились в гостинице, против подъезда которой лежат рельсы в расстоянии не больше как сажени да две от стены. Потом отправились на соседнюю улицу Леопардов и там заняли комнаты за 40 марок в неделю с полным пансионом. Моя комната выходила окнами во двор или тоже, что в лес, который тут же начинался идя по склону горы. Это был черный лес - Шварцвальд. Он тянется что-то очень далеко (по-немецки, а не по-русски ) и почти сплошь состоит из каштановых и буковых деревьев, но такой величины, чтобы ими можно было пользоваться для построек. Вероятно рубили его; но и пеньков не заметно. Выкопали? Кроме нас тут жило много иностранцев, особенно англи-чан, желающих в видах чего-либо жить вне Англии, так как жизнь в Гейдельберге, говорят, отличается своей дешевизной, но я не заметил этого уже потому, что платил 40 марок в неделю, это, стало быть, почти 6 марок в день, а судя по той пище, которую нам давали - это цена немалая. Правда, что уплативши деньги за неделю вперед, каждый слагал с себя все заботы и обедал дома, но зато уже не получал ни пива, ни вина за эту цену. За обедом мне было указано место рядом с какой-то немкой - девицей, с которой мы иногда спорили о том, кто в будущей войне Германии с Россией победит, русские или немцы. Я, конечно, говорил, что победа будет на стороне русских, если не случатся какие-нибудь другие обстоятельства, а какие именно теперь и предполагать невозможно. Она мне возражала опираясь на то, что немецкие офицеры и вообще командиры более образованы, чем русские. У меня была очень неудобная привычка, а именно, когда я увлекался разговором, говорил громче обыкновенного, так вышло и здесь: я хотел сказать немке, что у немцев еще руки коротки, чтобы победить русских, а сказал такую чушь, что все невольно взглянули на меня и наступило полное молчание. Тут выручила меня И.Ю.Муранова, указав мне на мою ошибку. Я хотел сказать по-немецки: Hande, а сказал: Hemde, т.е. у них еще очень коротки рубашки. Увидав свою ошибку, я громко поправился говоря: <....>, чем вызвал всеобщий хохот. Недели через две после нашего прибытия сюда стали собираться и студенты после летних каникул; они разгуливали по улице всегда в высоких сапогах, ботфортах, в каких-то особых костюмах на подобие венгерок, с корпорационной ленточкой через плечо и такой маленькой фуражкой, что надо было удивляться, как она могла держаться на голове. Иные водили с собой огромную собаку; это уже знак того, что студент из зажиточной семьи. Знакомство здесь завязывается как-то легче, чем раньше у меня было, может быть и потому, что я стал говорить по-немецки гораздо свободнее прежнего и потому чаще вступал в разговор. Тут и познакомился с одним американцем, мистером Брауном, который говорил по-русски и мы часто обменивались мнениями на разные темы; через него познакомился и с Рено, председателем какой-то студенческой корпорации, на собрании которой был однажды. Это происходило в одной из зал рес-торана, которая снималась на этот вечер только для корпорантов. Стены были украшены древесными ветвями и разными изре-чениями из немецких философов, посередине стояли три длинных стола вместе составленных в “П” фигуру. За средним заседал президент Рено и, когда мы вошли, он торжественно спросил все свое собрание, желают ли они допустить в качестве гостей доктора Курбатова из России и Брауна из Америки? Последовало единогласное согласие и нам указаны были места. Председатель громко и отчетливо сказал: colloqvium, и начался разговор и с соседями и через столы. Через несколько минут свободного разговора вдруг раздался стук кружки по столу и возглас председателя: “Silentia”. Моментально все стихло и председатель, обращаясь к одному из присутствующих, сказал: “Herr такой-то. Говорите, почему такую-то”. И тот, подчиняясь правилу корпорации, начал говорить, а все молчали и слушали. Когда он окончил и сказал: “dixi”, председатель обратился к другому с предложением возражать оратору и тот возражал. Так в течении вечера несколько раз чередовалось и silentia и colloqvium, в которых участвовали все новые лица. Наконец, после речей было оригинальное предложение. Рено объявил, что сейчас будет Bierskandal между такими-то и такими-то. Поданы были две кружки пива, почти ровно наполненные, без пены; их принял <....> уравнял в них содержимое на глаз, отпивая каплями из той кружки, в которой он находил больше пива и, уравнявши их таким образом, раздал диспутантам. Те поднесли кружки ко рту и по знаку данному моментально выпили, почти выплеснувши пиво в глотки; это сделалось столько быстро, что мы были поражены: очевидно немцы немало упражнялись в этом занятии. Напоследок объявлено было, что все выпьют в честь чего-то саламандру. Это состояло в том, что все с кружками в руках, вертя трижды прокричали “Саламандра”, а потом встали и моментально выпили содержимое. Значение этой саламандры мне осталось непонятным. Заседание кончилось, да и бочонок пива, который был здесь распит, оказался пустым. В первые же дни по прибытии моем в Гейдельберг я был в клинике профессора Черни (Cherny), отрекомендовался ему и просил его разрешить мне посещать его клинику. Он конечно разрешил и даже сказал, что теперь еще не начался семестр, стало быть, я не буду ни для кого помехой, если буду наблюдать за ходом операции, находясь около него самого. Так это и было все последующее время. На вид Черни еще молодой, ему нельзя дать и 45 лет, хотя он уже составил себе почетную известность, как хирург. Он сам оперирует всех больных, ежедневно вечером обходит все бараки, осведомляется о каждом тяжелом случае, не скрывает ни от кого ничего - ни дурного, ни ошибочного, не выставляет на показ особенно хорошие случаи. У него введена тоже антисептика в оперировании, но еще не доведена до такой степени, как было у нас в последнее время. Он по проис-хождению чех или словенец, и в нем нет и тени немецкой заносчивости и надменности свойственной прусакам. Вообще, все мне говорили, что чем дальше и дальше едешь по Германии на запад, тем все более и более замечаешь, что на западе немцы становятся все более и более похожими на цивилизованных людей, что грубость их постепенно уменьшается. И это правда. Спрашивал я там, часто ли бывают здесь дуэли у студентов? Мне объяснили, что упражнения на рапирах тупоконечных бывают часто, и это даже входит в круг занятий корпорантов, но дуэли остроконечными рапирами или какими-нибудь другими инструментами давно уже вывелись из обычая и мне не пришлось видеть ни одной исковерканной студенческой рожи, заклеенной полосками липкого пластыря, как это часто можно было наблюдать в Берлине или в Лейпциге. Из Гейдельберга мы компанией ездили однажды в Баден-Баден. Но там в это время сезон ванн уже окончился и домо-хозяева и содержатели гостиниц и ресторанов лишь подсчи-тывали свои летние барыши, а о новых уже не заботились. Город был пуст, а недели 3-4 назад он был полон приезжими, богатыми людьми, в нем жизнь била ключом. Кто хочет лучше ознако-миться с этой жизнью, пусть читает не эти записки, а Тургенева. Самое обычное место для прогулок в Гейдельберге - это т.е. та самая улица, на которой мы жили или бульвар. Она засажена вся роскошными платанами, содержащимися в порядке, а несколько отдаленное - это замок (Schloss), совершенно разрушенное гнездо прежних владельцев всей округи вроде герцога или чего-то подобного; в укрепленной части разру-шенного здания сохранилось до сих пор лишь кладовая или винный подвал, в котором стоит гигантских размеров бочка, сделанная из толстых буковых досок длиной не менее 5-6 аршин; диаметр бочки сажени полторы. Эту посудину когда-то местные крестьяне должны были наполнять вином местного урожая. Виноградников до сих пор вокруг города очень много, они дают ежегодно хороший сбор ягод, зеленого цвета, которые почти целиком все идут на выделку вина, не особенно ценного. Вообще здешнее вино не в славе; оно светло-зеленоватого цвета, кислое, без игры и малоалкогольное. Это просто напиток, а не вино. Разрушившийся замок стоит на невысокой горе, с которой открывается вид на весь город и вообще на всю долину реки Некар, разветвляющуюся на несколько рукавов и на прилежащие виноградники, все вообще как и сам дом обращены на южную сторону. Новая часть города прилегает к вокзалу жел. дороги, а старая очень небольшая, в стороне от нее. Эта старая часть настолько небольшая, что ее можно сравнить с нашим Подоль-ском Московской губернии, а между тем, в ней один из самых старых университетов Германии. Здесь нет ни театра, ни какого-либо общественного увеселения, учреждения, здесь все устроено к тому, чтобы протекала тихая семейная жизнь и, стало быть, для того, кто желает безмятежно заниматься наукой и не отвлекаться ничем на сторону, даны все условия. И действительно, здешний университет издавна славился своими филологическими и юридическими факультетами, на которых получили свое образование и многие выдающиеся русские люди, в том числе и Тургенев, и Герцен, и Олсуфьев и др. Теперь русских здесь очень мало; это не заезжие, а лишь приезжие, как и мы. Меня очень интересовали злокачественные опухоли Testiculi и здешний профессор патологической анатомии (кажется <....>) по просьбе Черни, показал мне массу спиртовых препаратов этих опухолей, по преимуществу <....> и <....>. Это своего рода богатство патологического кабинета. Здесь уже несколько месяцев занимался с микроскопом один наш русский врач Николай Васильевич Комаровский из Костромы, он жил здесь где-то в очень маленькой комнате с женой, на вид богом убитой особой, которая, однако же, вследствие своей крайней скупости и ревности, умела держать мужа в таких ежовых рукавицах, что его, кроме патологического кабинета нельзя было нигде увидать. Потом они перебрались в Париж, жили в той же гостинице, где и я, и вели такую же изолированную, замкнутую жизнь, как и здесь. Потом, по возвращению в Россию, он жил некоторое время в Москве, а затем переехал на родину в Кострому, где занял место главного доктора по уходе из него Борейши. Он не долго оставался на этом месте вследствие полного отсутствия у него административных свойств, и последовавшей от того распущенности всего служебного персонала от врачей и до сиделок, что в свою очередь отразилось и на положении больных. Он был хорошим хирургом, особенно гинекологом, и делал даже овариотомию с хорошим успехом, но полная забитость его, выработанная, может быть, супругой, была поразительная. В этом отношении у него было сходство с Борейша: и тот и другой были в полном подчинении своих супруг, сделавших из мужей каких-то автоматов. Что это свойство костромичей, что ли? Ведь, мне приходилось видать костромичей, те были не такие, а эти какие-то особенные. В Гейдельберге я оставался недолго, всего один месяц и по отъезде Мурановых в Страсбург, через неделю уехал туда же. Тут мы поселились сразу на квартире в маленьком переулке, как раз против клиники, в доме местной знахарки, которая пользовалась такой известностью, что за ней постоянно приезжали лошади, увозившие ее к больным, потому что в Германии до сих пор не было никому запрета заниматься врачеванием, лишь бы от этого не было вреда больным. Эта знахарка сама и составляла лекарства, варила какие-то мази и пластыри, а за отсутствием времени поручала варку прислуге, которая как-то раз недосмотрела и пустила слишком большой огонь, пластырная смолистая масса загорелась, брызнула на нее и за ней загорелась одежда, вследствие чего получились обширные ожоги, с которыми ее положили в клинику. Город Страсбург раскинут по обе стороны Рейна, который здесь очень широк, доступен для пароходов даже большой величины. Весь город был обнесен довольно широкой стеной, по которой могли свободно ехать наши две тройки; края стен были обсажены большими деревьями, а наружная поверхность обложена была крупными камнями. Словом, эта стена представляла собой в свое время довольно серьезную крепость, и в городе было еще много свободного незастроенного места. Но после того, как немцы победили французов, и Страсбург стал собственностью прусаков, они нашли, что в городе очень тесно и приказали перенести городские стены дальше, для чего город должен был купить у правительства землю вне своих стен, хотя эта земля и принадлежала ему же, городу, т.е. купить свою же землю, конечно за ту очень высокую цену, которую назначили немцы. И город, не имевший до войны ни копейки долга, с этих пор стал должать, а перенос стен, говорили, будет стоить ему несколько миллионов франков. Вообще, немцы тогда нисколько не церемонились с эльзасцами и делали, что хотели. Их бесцеремонность, особенно офицеров, разительным образом высказывались на улице: немецкий офицер, в каком бы чине он ни был, идет заложивши руки в карманы, по совершенно прямой линии, не делая от нее ни малейшего уклонения в сторону и сталкивая все, что ему попадается по пути. Местные жители эльзасцы сильно недолюбливают их за это и говорят, что офицеры ходят здесь по пути победителей. Насколько немцы были жестоки во время осады Страс-бурга, ходит много рассказов, и нам показывали небольшой пригорок вне стен города, на котором они заживо сожгли трех пленных французских офицеров, заподозренных совершенно неосновательно в шпионстве, т.е. в том занятии, которое находится под особым покровительством у немцев, когда оно служит для их пользы и к которому они прибегают особенно охотно. Вся последняя война с Россией показала, что никогда и нигде шпионство не было так развито, как в Германии, даже сама русская императрица (жена Николая II) была их шпионкой, а дело жандармского полковника Мясоедова, пользовавшегося особой благосклонностью императора Вильгельма, подтвердило это многими фактами, за что он и был повешен, хотя и был полковник. А та стая немцев, которая окружала военного министра Сухомлинова? Кто они были, как не немецкие шпионы? Выехал я из Страсбурга в Париж в половине нашего ноября; дело было вечером, супруги Мурановы провожали меня на вокзал, а сами они оставались в Страсбурге еще некоторое время по каким-то соображениям. Я взял билет 2-го класса, но вагон, в который поместили меня, был значительно хуже наших русских второклассных вагонов: отличие его состояло лишь в том от третьего класса, что сиденья были обиты какой-то мебельной материей поверх, вероятно, камней; грязновато было всюду, но я не смущался этим, предвкушая все-таки ту мысль, что я еду в столицу мира. В поезде было немного народа, поэтому и сидеть и лежать можно было свободно; там почему-то предпочитается, или тогда предпочиталось, ездить не с этим поездом, который должен был идти из Парижа на Лион и Марсель, а с другим, идущим тоже в Марсель, но выходящим днем. Ехали довольно скоро, а на границе с Францией, на станции Аврикург, стояли около часа, хотя здесь не было никакого таможенного досмотра, минуты через 3-4 опять остановка, но уже более продолжительная, с таможенным досмотром. Это французский Аврикург и здесь уже исключительно французская речь. Пользуясь продолжительной остановкой я отправился в буфет и спросил себе кофе с молоком; до тех пор я никогда не только не пивал этого напитка, но и не видал, как его люди пьют. Мне дали чашку на подобие наших полоскательных чашек и при ней столовую ложку. Я знал хорошо, что есть и чайные ложки и кофейные, но чтобы между ними была такая большая разница - этого я не предполагал; стало быть, по здешнему выходило, что это не питье, а скорее еда, по нашему - похлебка. Я имел терпение опорожнить всю эту миску, хотя содержимое ее не очень нравилось мне, а как только отъехали от вокзала несколько верст, весь этот напиток не захотел оставаться во мне - выскочил обратно тем же путем, каким попал и в меня; вероятно и тут немец с французом не ужились, и француз ушел. После этого я залег спать, а просыпаясь и глядя в окно видел, что мы часто проезжали мимо работающих заводов, из высоких труб которых вылетало синее огромное пламя; это были все чугуноплавильные заводы. В Париж приехали утром часов около 8-9. Помню до сих пор, хотя с того времени прошло уже почти сорок лет, что при выходе из вагона я испытал совсем не то поганое ощущение, которое испытывал в германских городах, а какое-то приятное, точно после долгого отсутствия из Москвы вновь вернулся в нее. Не было тут никакой немецкой наглости, военщины, хождения по струне; все было мило, весело, развязно, приветливо. Конечно, мой ящик взяли для досмотра и спросили, что у меня есть из подлежащего оплате; я сказал, что не знаю, за что нужно платить, за что не платить - посмотрите сами. У меня вот есть немного табаку и несколько сот папирос, но все это только для себя, а не для продажи; может быть за это нужно будет платить? Когда я показал таможенным чинам табак, они очень удивились его запахом и внешним видом, а один даже спросил, не дам ли я им его попробовать, а когда я согласился и предложил им всем по одной папироске, скоро вокруг меня образовалась целая толпа чинов разного ранга, все курили и похваливали табаки рюсс. Никакой пошлины с меня не взяли, помогли увязать ящик и сами же снесли к извозчику без всякого pour boire‘a. Я знал уже куда мне надо ехать, потому что еще из Стасбурга написал в гостиницу, в которой намерен был остановиться, чтобы мне оставили номер от такого-то числа. Об этой гостинице я знал от К.Вл. Янковского, который успел уже не раз побывать в Париже и всегда тут останавливался. Это бульвар Св. Михаила, улица Медицинской школы N4.(Boulevard‘ St. Michel, Rue de l~ Ecole de la Medicine), рядом со знаменитой фабрикой хирургических инструментов Шарьера. Комната для меня была свободна, она была в одно окно, но громадное, подобное двери, с широчайшей кроватью, на которой можно было лежать и вдоль и поперек; на ней пышная перина, а на перине еще перина вместо одеяла, так что нужно было спать между двух перин, конечно, и две подушки. Постельного же белья не полагалось, за него нужно было платить отдельно. Кроме кровати было достаточно и мебели и при этом неизбежный шкаф с большим зеркалом. Но не было печи, вместо нее лишь камин, от которого, конечно, нельзя было ждать тепла. Все это удовольствие стоило 55 франков в месяц с прислугой, что при стоимости тогда франка на наши деньги в 37 коп. 20руб.35коп. В Москве такой номер за такую цену найти конечно не было возможности. Дешево и в центре города. В угловом доме, стало быть, рядом со мной было Etablissement Duvale - столовая акционерного общества, в которой ежедневно обедало и завтракало несколько сот человек, главным образом студенты и другие учащиеся, так как это был известный Латинский квартал, в котором сосредоточена масса различных высших учебных заведений Парижа. Замечательный порядок в этой кухмистерской, говоря нашим языком: при входе Вам дают в руку печатную карточку, на которой означена цена всех имеющихся кушаний; с этой картой Вы садитесь на свободное место и спрашиваете то, что Вам угодно, зная, сколько это будет стоить; прислуга обыкновенно женская, тотчас подает кушание и зачеркивает в карте то, что Вы спросили; Вы можете есть что угодно по вкусу. Хлеба дается сколько угодно без платы. Обязательно спрашивать и вино, красное или белое тоже за особую плату, как и кушанье: его дается маленький графинчик, величиной со стакан. По окончании обеда Вы хорошо знаете сколько Вы проели и добавьте к этой цифре еще 10 сантимов, которые нужно дать прислуге. С карточкой идете к кассе, где кассирша принимает плату, ставит на карте штемпель и отдает Вам обратно, а Вы отдаете тому, кто Вам ее дал при входе. Результат этого тот, что по этим пронумерованным картам всегда можно знать сколько было посетителей и сколько они заплатили, стало быть и проверить кассу. Утайка денег невозможная. И просто и остроумно. Живя в Париже полгода все на той же квартире, я ежедневно обедал у Дюваля и находил, что у него обед очень хороший. Это мое мнение подтверждали и те из наших русских, которые успели побывать в разных парижских ресторанах и даже те, которые и приехали-то сюда затем, чтобы покушать французские кушанья, отведать истинную французскую кухню. Я должен сказать откровенно, что германская кухня, как более обильная мясными блюдами и разными приправами конечно, ближе подходит ко вкусу русского человека, менее привычного к салату и вообще ко всякой французской зелени. Немецкая пища более обильная и питательная, чем французская. В Париже я не мог нигде найти черного хлеба, в Германии он известен под именем солдатского, и где есть солдаты, там можно найти и черный хлеб, иначе говоря, купить у солдат. Французский белый хлеб почти сплошь состоит из корок, и совсем нет в нем мякиша, а для меня мякиш в хлебе - главная его часть, например сайка или весовой хлеб. Но это все не важное дело, которое можно терпеть и к которому можно даже привыкнуть. Но что я поставлю французам в упрек, так это то, что у них нет нашего так называемого турецкого табаку. У них торговля табаком составляет государственную монополию и табак (но не сигары) продается в винных лавках, т.е. в кабаках, представляет какое-то крошево черного цвета и зловонного запаха, а после курения его в трубке или в виде папиросы в горле остается ощущение, как будто там засел гвоздь и не двигается ни туда, ни сюда. Вот почему таможенные служащие с таким удовольствием курили мои папиросы, когда я угощал их в день моего приезда, и почему они были со мной так приветливы, если не всегда они таковы. Знания мои французской разговорной речи были тогда более чем ограничены. Я не мог тогда сказать ни одной долгой фразы, за исключением того, чтобы спросить еду, узнать цену такой вещи, на которую указываю рукой и т.п. Я все это теперь предвидел и потому решил прежде чем начать хождение по больницам и клиникам, подучиться французскому языку, а для этой цели взять учителя или учительницу. В этом деле мне помог доктор Янковский, который живя в Париже, брал уроки разговорной речи у одной дамы. Он мне дал адрес этой дамы - мадам Елиз. А Муранова еще в Страсбурге написала мне письмо, которое я должен был отправить к этой даме со своим адресом. Так я и сделал по приезде своем в Париж через несколько дней, и к изумлению моему на завтра же после отправки письма ко мне явилась дама лет пятидесяти и отрекомендовалась и сказала мне, что она пришла согласно моему письму. С большим трудом, но все же мы поняли друг друга и условились, что она будет приходить ко мне ежедневно, чтобы говорить со мной или читать часа два; главное исправлять мое произношение. В воскресенье занятий не будет. Цена в месяц 50 франков, т.е. на наши деньги 18 с половиной рублей. Плата очень невысокая, если взять во внимание, что она должна делать концы от меня и ко мне не менее 5 верст каждый раз. Со следующего же дня начались наши разговоры, а без нее я читал тамошние газеты и мало что в них понимал. Но скоро, через какой-нибудь месяц я настолько освоился с языком, что мог уже вести разговор и понимал лекции, хотя последние понимать вообще гораздо легче, чем разговаривать; но иногда даже через 3-4 месяца моя учительница не понимала, что я хочу сказать, делала большие глаза и с ужасом спрашивала меня: comme....nt? Я поправлялся, пояснял свою речь и она всегда сдержанная к моим ошибкам, все же не могла не расхохотаться и смеялась от души. Мы читали с ней все, что попало, а особенно она любила, чтобы читали Виктора Гюго, и я даже купил его один роман “Нотр Дам де Пари”. Когда описывался влюбленный патер и Эсмеральда, она выходила из себя и говорила настолько быстро и горячо, что я уже совсем не понимал и замечал ей об этом, а она извинялась и объясняла свою горячность тем, что не может равнодушно читать о негодяе патере, который как стал духовным лицом, пообещался перед Богом отказаться от всего мирского - и будь таким, иначе не общайся. Но кроме прочитанного у нее всегда были темы для разговора, и о чем только она не говорила. А когда Ант. Ник. прислала в письме мерку для своего корсета, прося купить его в Париже, и я сообщил учительнице об этом - для нее это был точно праздник: она тотчас же со мной пошла в большой магазин Au Bon Marche и там, как бы у себя дома, направилась прямо в мастерскую, где готовятся корсеты, подводила ко мне то ту, то другую мастерицу, спрашивая: не похожа ли эта на Вашу жену по своему сложению? Пересмотревши девиц штук с десяток, я остановился на одной и сказал, что эта как будто похожа.” А теперь я понимаю, какова Ваша жена”, - и выбрала такой корсет, который потом оказался замечательно удобным и вполне по мерке. Тоже самое было и с выбором накидки или сontection, как тут называли. И все это сделано без всякой роскоши, но красиво и удобно. Особенно любила мадам Latelise, когда я угощал ее чаем, которого она раньше не пивала, а когда я стал подливать в него немного рома во время заварки и стал покупать пирог с яблоками к чаю - удовольствие так и сияло на ее лице. Потом приехали Мурановы, я отхлопотал для них порядоч-ный номер, этажом ниже меня, познакомил их с Latelise, и она была в восторге от любезности русских и говорила мне много раз, что она раньше ошибалась относительно них, что вероятно и казаки не такие дикие люди, как о них говорят французы. Кончились наши занятия тем, что я совершенно освоился с французской речью и даже пошел в театр, где давалась какая-то странная пьеса, будто бы из русской жизни, под названием Michel Strogoff. Тут была и русская изба в виде павильона, были raskolniki в костюме средневековых голландцев и еще что-то, к чему непременно нужно было объяснение. Там держались такого правила, что если ставится в театре новая пьеса, то в случае, если она не освистана, стало быть, совсем не угодна публике, то она ставится ежедневно раз до 100 и концу этого срока выучивается артистами настолько, что исполняется без помощи суфлера. Начал я посещать клиники и больницы лишь месяца через два по приезде сюда и на I-й раз отправился в клинику m-r Gugon‘a в госпиталь Necker‘a на Севрской улице. Уже с внешней стороны эта больница представляется непохожей на наши московские больницы. Это какое-то мрачное здание, при взгляде на которое припоминаются слова Данте, написанные над воротами ада: “Оставь надежду всяк, сюда входящий”. С улицы устроено помещение для привратника, так что он видит каждого входящего в госпиталь. Швейцаров при входе в здание или в помещение для больных нет, да они и не нужны, потому что хранить верхнее платье не приходится, так как учащиеся его не носят, а о калошах не имеют и понятия. Палаты для больных огромные, человек на 20 каждая. Кровати стоят одним концом к окнам, другим к середине зала и каждая кровать окружена пологом настолько, что если спустить его полы выходит цела будка над кроватью. Полог этот, конечно, белый, коленкоровый, и по верху его идет ряд оборочек, ставших от насевшей на них пыли серого цвета. При входе профессора, все полы пологов поднимаются. На всю палату лишь одна сестра милосердия, обыкновенно какая-нибудь старуха-монахиня в громадном белом чепце, тоже со множеством оборок и фестонов, из которого она выглядывает, как малая собачонка из большой собачьей конуры. Служитель в блузе, более чем нечистой - один, кажется, на две палаты, которые во всех больницах называются залами и нумеруются. Хотя бы какого-нибудь напоминания на антисептики у Guyon‘a тогда не было, хотя говорилось об этом очень много и, конечно, если бы было понятно все значение антисептики правильно, то она должна была бы появиться и развиться раньше всего во Франции. Но французы настолько консервативны (я говорю о хирургах) и так горячо придерживаются своих традиций, что их далеко опередили все другие, даже наши хирурги. Наши хирурги давно оставили, а некоторые и забыли даже применение припарок, а французы часто при мне применяли карболовые припарки, в тех случаях, когда мы назначаем согревающий компресс. Cataplasme pha<....> у них самое обычное лекарство и в старых госпиталях, каков и Неккеровский, даже около большой палаты или залы, есть маленькая комнатка под названием припарочная, в которой на небольшой плите постоянно подогревается каша из льняного семени. У нас этого давно уже нет, согревающие компрессы заменили собой припарки, а припарочные получали иное назначение. Только в бараках Павловской больницы, строенных по планам гл. доктора Ураноссова, в конце прошлого столетия, сохранились еще припарочные. Но что же взять с Ураноссова, который был проникнут чинопочитанием, был чиновник от макушки до пяток, хотя и получил когда-то медицинское образование. А в таких больницах как Бахрушина или Солда-енкова, конечно, нет припарочной. Все инструменты, которые употребляются при обходе больных в палатах, находятся в карболовом растворе в стеклянной банке, куда они опускаются после употребления их в дело; банка эта вместе со столиком, на котором она стоит, передвигается от одной кровати к другой посередине залы; на ней стоят и банки со свиным салом и гигроскопической ватой и еще чем-то, словом это подвижная маленькая аптечка. И сам профессор и помощники его во время обхода больных надевают высокие фартуки или передники, но для защиты себя от загрязнения, а не больных от занесения на них какой-нибудь заразы. Мне не удалось видеть, чем кормят больных во француз-ских госпиталях, но я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь жаловался на больничную пищу. Лекарств там очень много, изобилие и все новое, что изобретается, находит себе применение в госпитале. Насколько это верно, я не знаю, но говорю то, что слышал, будто бы каждый врач, заведующий отделением в госпитале, имеющем свой сервис, обязан читать клинические лекции приходящим к нему слушателям-студентам, если их является не менее 3-х человек, и что будто бы декан Мед. фак. распределяет студентов для клинических занятий по госпиталям и отделениям в них; что будто бы каждому студенту примерно нашего 4-го курса дается такая книжечка, в которой назначается ему госпиталь, который он должен аккуратно посетить сто или около ста дней подряд, что засвидетельствует имеющий свой сервис врач, и только после представления такой книжки декану, ему дается право на посещение еще какой-нибудь больницы. Наши порядки в этом отношении гораздо лучше и, по-моему мнению, производительнее в смысле приобретения знаний, продуктивнее. Обыкновенно таким отделением заведует кто-нибудь из профессоров университета, но есть и такие заведующие отделе-нием, которые не состоят профессорами и, тем не менее, читают лекции. Таков, например, известный по изобретению своих кровоостанавливающих пинцетов доктор Pean. Он, во время моего пребывания в Париже не был профессором факультета, а у него была масса слушателей, и он каждый день оперировал очень много. Я забыл теперь, в каком госпитале он работал, но я посещал его нередко. Нужно здесь сказать о нем несколько слов. Приезжал он всегда в своей очень красивой каретке, везомый очень бойкими лошадьми, на козлах рядом с кучером сидел лакей в ливрее со множеством воротников горохового цвета и шляпе - цилиндре с кокардой. Сам Pean мужчина средних лет, невысокого роста, но очень плотно сложенный, черный, с большими пушистыми баками и пробритой по средине бородой, всем видом своим производит сильное впечатление. Во время оперирования он не надевает ни передника, ни пальто, а как был, так и остается во фраке и лишь двумя салфетками ему завязы-вают рукава вместе с манжетами и завязывают шею, как будто бы для обеда, чтобы не закапать жилет. Ему вывозят уже захлорированных больных, лежащих на операционном столе, который движется по рельсам, из соседней палаты в опера-ционный зал. По окончании операции больной на том же столе отвозится обратно, и там уже рана зашивается и накладывается повязка. Останавливает кровотечение сам Pean своими пинцетами с поразительной ловкостью. Во время оперирования масса их лежит в тазике с карболовым раствором. По удалении из операционного зала одного больного, на его место тотчас же привозят другого и так далее, вследствие чего он в какой-нибудь час времени успевает сделать несколько больших операций и он уезжает из госпиталя не запачкавшись ни одной капли крови. Его фигуру и его экипаж хорошо знают в Париже и относятся к нему с большим уважением. Дома у него бывает большой прием больных, которых он однако же дома не оперирует. У него назначена плата за визит в 40 франков, а на дому у него конечно меньше. Но и эту плату сравнительно с нашими русскими находили очень высокой, но мирились с ней в виду его популярности, как мирятся с платой выдающимся артистам, особенно певцам. Кроме Pean‘a мы с Мурановым часто посещали хирурги-ческое отделение в госпитале Piti м-сье Vernel`я. Этот маленький, с большими волосами довольно подвижный старичок, кажется не мог и минуты пробыть в покое, всюду успевал, все видел, на все обращал внимание и сообщал это. Студенты обращались с ним как с добрым дядей или дедом. Однажды во время операции, они не только обступили его, но прямо даже навалились на него со всех сторон так, что он наконец закричал: “Ehe‘ les pollisions, ну, ну, шалуны, Вы задавите меня! А кто же будет кончать операцию? Ведь никто из Вас сделать это не сможет. Пустите меня!” И шалуны отступили. С больными у него такое же ласковое обращение, как и со студентами, а когда я, рекомендуясь ему, просил его разрешить мне посещать его Клинику, он спросил меня, не был ли я в Германии, и когда я сказал, что был, он ответил мне, что это и видно, что меня там научили кланяться профессорам и просить у них на все разре-шение. Посещайте мой сервис сколько угодно, ведь меня от этого не убудет. Антисептический метод лечения ран и у него все еще не был введен, хотя в заседаниях медицинских обществ он всецело стоял за него. И там, как в Германии (при мне) все еще придавали большое значение не чистоте, а тем или другим аптечным веществам: в Германии карболовой кислоте, во Фран-ции - салициловой, а что перевязочный материал был не всегда чист, а иной раз его поднимали с пола, куда он попадал, пройдя несколько рук, это не считалось важным, и ему не придавалось значения. Теперь, говорят, все изменилось и асептика взяла вверх всюду, во всех больницах, как у нас в России. Вообще во Франции того времени (1881г.) нам учиться было нечему: почти все профессора были преклонные старички, украшенные сединами или лысинами во всю голову, а в таком возрасте трудно было менять свои взгляды, с которыми срод-нился за многие годы профессуры и признать ложными те взгляды, которые проповедовал с кафедры многие десятки лет. Из молодых профессоров того времени я могу припомнить лишь M-r <....>, очень раздражительного, вследствие болезни, человека. Кроме оперирования в какой-то больнице он еще читал курс по-нашему теоретической хирургии или хирургической патоло-гии. Эти лекции его почти всегда сопровождались аплодис-ментами со стороны слушателей (скажу здесь мимоходом, что в Германии студенты никогда не аплодируют, а стучат о пол ногами - каблуками, почему получается впечатление, что идет по полу целый эскадрон кавалерии). Между другими старцами припоминаю Панаса (Главная клиника), Гослена (мочев. и полов. органов), Деспре (хирург. кл.). Последний замечателен был тем, что он открыто смеялся над антисептикой и во всех заседаниях Медицинской академии говорил против нее. Он приводил много таких доводов, которые тогда еще могли быть разбиты, как это сделалось бы теперь. Я говорил здесь, что я ходил обедать всегда к Дювалю, а на противоположном углу бульвара было кафе, в котором собира-лось по вечерам много русских, и между ними бывали и кавказцы, и армяне. Здесь часто бывал и один француз, желавший изучить русский язык, но до поры до времени не выдававший своего намерения, хотя и говоривший уже почти правильно. Я с ним познакомился и он сообщил мне, что на этих днях будет чество-ваться 70-я годовщина Виктора Гюго, и спрашивал, пойду ли я в толпу поздравителей. Я охотно согласился, и он хотел зайти за мной завтра. Но в это время подошел к нам Ник. Ал. Каблуков, тоже перебравшийся сюда из Германии на пути в Англию и тоже предложивший идти поздравлять В.Гюго. Назавтра мы все трое пошли вместе и когда прибыли на ту улицу, на которой жил юбиляр, здесь уже стояла громадная веселая толпа народа. В.Гюго еще не показывался. Минут через 20 показался и он в сопровождении своих внучат (мальчика и девочки), толпа его приветствовала, говорились многочисленные, но краткие речи. Были речи и от русских студентов, которые не могли себе найти места для образования в тогдашней России. Какими-то судьбами толпа выдвинула меня вперед, и Гюго из рук в руки вручил мне свой фотографический портрет с автографом, который хранился у меня в столе до последнего времени, где он теперь не знаю. С тем же французом, изучавшим русский язык, высоко ставившим Ив. Серг. Тургенева, я был весной в пригородной местности Буживаль, где на даче Виардо жил тогда Иван Сергеевич. Он охотно пригласил нас, говорил, конечно, и с французом по-русски. Сообщил много интересных сведений о России, между прочим, и то, что Александр II-й решился дать своему народу конституцию, в которой он так нуждается, и что устав конституции уже разрабатывается, но, по всей вероятности, она выйдет куцей, не похожей на английскую; но и это будет уже хорошо, потому что постепенно она будет разрабатываться, дополняться, видоизменяться и сделается настоящей; во всяком случае, не будет возврата к самодержавию, до тех пор, пока не явится какой-нибудь выскочка; может быть из немцев или креатура их, который захватит власть в свои руки и сделает то, что захочет; ведь в России все возможно; мы ко всему привыкли, ко всяким фокусам и видя их не протестуем, а только удивляемся выходке смельчака. А ему-то что? Он знает на что идет, что его век не долог, что он непременно сломит себе шею, а тут хотя бы день - да его. Теперь я припоминаю, что Иван Сергеевич был вполне прав во всем, от первого слова до последнего, что в день смерти Александра II-го была подписана конституция, что она действительно была бы куцая, и ввиду такого громадного события, как смерть отца, Александр III-й возвратил ее из типографии. Прав Тургенев, прав. Кроме посещения больниц, что делалось по утрам, мы с Мурановым занимались еще топографической анатомией и оперативной хирургией в так называемом амфитеатре Клакар. Это учреждение носит название свое потому, что оно стоит на месте бывшего здесь в старые годы кладбища, теперь уже давно упраздненного, потому что оно все уже застроено жилыми домами и вошло в черту города густонаселенную. Общество французских врачей устроило здесь анатомический театр и содержит его на свой счет, а заведует им известный анатом и хирург Тийо, который читает там лекции желающим; материал для занятий, т.е. трупы доставляют из городских больниц. За посещение лекций и занятия на трупах, сколько бы их не понадобилось, уплачивается 5 франков за 1/2 года, причем инструменты выдаются для занятий бесплатно. Французы-врачи придают знанию анатомии гораздо больше значения, чем где-либо, и потому здесь можно бывает встретить на занятиях людей и не первой молодости, явившихся сюда для возобновления забытого. Помощник Тийо (Tilleau) м-р Бек бывает здесь ежедневно в определенные часы, и к нему можно обращаться и за советом, и за разъяснением во всякое время. По моему мнению это учреждение в высшей степени полезное и не худо было бы, если бы подобное ему было в Москве, так как московские врачи, не во гнев им будь сказано, отличаются весьма слабыми знаниями анатомии. И не только старики, которые много забыли, но и молодые, как я мог убедиться в этом во время службы в Павловской больнице. По соседству со мной было еще замечательное учереж-дение - анатомо-патологический музей Дюпюитерена, принадле-жавший Медицинскому факультету, который помещался рядом с моей квартирой (через один дом). В нем находится богатейшее собрание засушенных препаратов, есть и спиртовые, и сделанные из папье-маше в высшей степени отчетливо. Особенно же много костных препаратов, и между ними подлинный скелет какой-то Анны, рисунок которой приведен в руководстве к акушерству Ан. Як. Красовского. Это выдающийся образец размягчения и обезображения (osteomalatia) всех костей скелета. Препарат помещается на особом пьедестале, а на стороне пьедестала печатная надпись соответствующего содержания. Вообще, под каждым препаратом есть подпись, в которой сказано, где можно найти подробное описание его, под каким номером, а подлинник описания находится тут же в библиотеке, пользоваться ею может всякий, но только тут же, а уносить с собой ничего нельзя. Кроме скелета изуродованной Анны, есть еще образец замечательного травматизма черепа. Препарат представляет собой нижнюю половину черепа. Через правую глазницу его проходит толстый железный стержень в полость черепа, где он виден под турецким седлом, а далее выходит наружу через затылочную кость. Из описания, конечно краткого, видно, что этот железный стержень ничто иное, как шомпол обыкновенного ружья; попал же он в череп во время обучения рекрутов; одному из них в ружье вложен был боевой патрон, забит, как обыкно-венно, пыжом, а шомпол случайно забыт в ружье. Обучавший рекрута унтер-офицер стоял против него и указывал как направ-лять ружье и как стрелять; тот выстрелил и шомпол попал унтеру в глаз и вышел на затылке. Его пробовали тащить обратно, но не смогли ничего сделать, не вытащили; начали выбивать молотком, тоже ничего не выбили и повезли в госпиталь за несколько верст от места катастрофы. Там попытки вынуть шомпол тоже оказались бесплодными и чтобы дать возможность больному лежать на подушке, торчавшую на затылке часть шомпола отпилили. Больной прожил несколько дней. Это не единственный случай такого ранения, при котором потерпевший мог прожить несколько дней. Я теперь припоминаю, что в старых университетских клиниках на Рождественке, в том здании, в котором теперь помещается Строгановское училище, в аудитории Терапев-тической клиники было собрание патологических препаратов, составленное бывшим профессором Ал. Ив. Овером (француз), сделанных хорошим художником из папье-маше, снятых с натуры и раскрашенных, но они висели так высоко, что для обозрения или снимания со стены нужно было приставлять очень высокие лестницы, что было небезопасно при паркетных полах аудитории. Для чего их так поместили и кому они могли в таком положении принести хотя бы самую ничтожную пользу - об этом вряд ли подумали размещавшие. Все эти препараты были занумерованы, подписи под ними не было, и когда я был студентом не было ни разу, чтобы ими кто-нибудь пользовался. А Дюпюнтреновский музей посещается многими и постепенно пополняется. Замечательное пособие для изучения практической меди-цины находилось при мне в Париже. Оно состояло в следу-ющем. В одной медицинской газете, кажется в Progres Medicale или какой-то другой, был особый отдел, в котором были указания из всех больниц о том, в какой из них, в какой зале, под каким номером находится больной или больная с такой-то болезнью, и если кто-нибудь из врачей интересовался подобными болезнями, мог идти в указанную больницу и, с разрешения директора, видеть больного и наблюдать его. У нас ничего подобного нет, а когда я, служа в Павловской больнице, хотел привести эту мысль - я встретил полное несочувствие ей: мне говорили, что если будут ходить посторонние врачи, так они будут беспокоить больных, а пожалуй и критиковать действия местной администрации (как будто бы свои-то не могли критиковать ее), что вовсе нежелательно. Когда было открыто в Москве собрание врачей (Медицин-ский клуб), я часто бывал в нем, заговаривал о том, какие редкие случаи попадали в больницу и говорил, что их можно видеть во всякое время; на это я встречал всегда полное равнодушие слушателя. А когда я настойчиво зазывал всех посмотреть одного больного, у которого я определил эхинокок селезенки, которого в скором времени должен был оперировать, так на мой зов никто даже не откликнулся, а слушатели мои делали вид, точно говорили: мало ли что на свете бывает? Всего не пересмотришь. Так мой Тит (имя больного) не дождался посетителей и умер, а между тем болезнь его была в высшей степени поучительная - при диагностике подтвердилось: эхинокок селезенки громадный. Случай этот довольно редкий, так как патологоанатомы говорят, что эхинокок, первично наблюдаемый в селезенке, почти не встречается. Будь это в Париже к больному явилась бы масса визитеров, а у нас полное равнодушие. А какое почтение оказывают французы своим выдающимся согражданам, на это указывает великолепное громадное здание в виде собора - это знаменитый Пантион, в котором я встречал всегда массу интеллигентной публики или не менее знаменитое здание Дворец инвалидов, в котором находится могила Наполеона I называемое Tombe d‘Empereur - могила императора, не короля. Эта могила находится в особой комнате немного ниже уровня пола и в ней по середине поставлен саркофаг, у которого горит неугасимая лампада, как и у гробницы Пастера в его институте. Около гробницы императора, хотя собирается и много самой разнообразной публики, но почтительная тишина и полное уважение к памяти умершего не нарушаются, а если бы нашелся такой озорник, который вздумал бы выкинуть здесь какую-нибудь шуточку, так присутствующие и особенно сторож, так бы его оборвали, что надолго обили бы охоту делать подобное. Кто не был в Париже, тому трудно представить себе, до чего здесь развита уличная жизнь. С утра до 11 часов ночи по всем улицам здесь движется толпа народа, а к вечеру все рестораны и кофейни переполнены. Посетителей так много, что они не вмещаются в помещениях, множество их сидят за столиками перед кофейнями на тротуарах, и вся эта масса громко беседует, острит, а не то, так и запевает какую-нибудь модную шансонетку, на которые мода меняется чуть не ежедневно. Если появляется в газетах какое-нибудь сенсационное известие, продавцы газет громко выкрикивают его, и газетчики быстро освобождаются от своей ноши. И несмотря на такую толпу на тротуарах, все же движение свободное, и лишь изредка появляются городовые. Замечу здесь мимоходом, что в Париже городовые ходят всегда попарно и все достаточно вооружены, но оружие их не выставлено напоказ, а скрыто под накидкой. Они не вмешиваются в толпу, не просят честью расходиться, не тащат кого попало в участок и уж, конечно, не колотят никого по шее, хотя, как французы, охотники подраться. Я однажды только видел на улице пьяного, который не мог идти сам и упал, говоря, что он выпил сегодня много водки, и почти в тот же момент точно с неба свалились городовые, подхватили его и увели куда-то без всякого сопротивления и его самого, и окружавшей его толпы. Сквернословия я не слыхал на улице, не видел и побоища. Даже в такое время, как наша масленица, с четверга, в которой там прекращается всякая торговля в магазинах с полудня и все занятия в присутственных местах, кроме почты и телеграфа; даже, говорю и в такое время, когда все улицы буквально запружены разодетой и замаскированной толпой, все же не видно никакого безобразия на улице и толпа сама себя дисциплинирует. Парижане не могут должно выносить великий пост, и потому у них кроме веселья на масленицу (сareme), существует еще полупост (demi-сareme) - это праздник по преимуществу прачек и белошвеек, которые весь год откладывают копейки от своего скудного заработка, чтобы вволю повеселиться в эти дни. При мне этот полупост праздновали довольно весело, но m-m Latelize, моя учительница, говорила, что раньше это бывало веселее. Если это не весело, так что же еще надо? По середине улицы ехали громадные дроги, на которых стоял пароход, а на нем всевозможные флаги и знамена, под которыми толпа молодых женщин и девушек пела и плясала. Все они были костюмированы, в масках, а вокруг дрог, забегая на встречу друг другу, бегали два козла, белый и черный, а при встрече старались забодать друг друга. Говорили, будто бы эти козлы изображали собой что-то из современной политической жизни, и все хохотали, когда козлам не удавалось попасть друг другу в бок, а они так видимо старались об этом. Мне потом говорили, что на площади Согласия (Place de la Concorde) было прежнее веселье, но я его не видал: с меня достаточно было и того, что я видел в Латинском квартале, на Михайловском бульваре. Толпа не стеснялась заходить и в С. Жерменское предместье - это улица французской зажиточной и самой богатой денежной и родовитой аристократии, которой все еще много во Франции. В этом предместье всегда бывает сравнительно тихо и чинно, как и подобает жилищам сановитых лиц. Движение на улицах продолжается до 11 часов ночи, а затем как по волшебству, в несколько минут толпа исчезает, и на ее место вступают метельщики, чтобы очистить и убрать улицу от сора. Кстати сказать о метельщиках. Это все ночные рабочие города; каждый из них работает на своем участке и работает добросовестно. Но каково же было их положение, когда однажды зимой после того, как они убрались, пошел снег и настолько сильный, что все улицы покрылись им чуть ли не на два вершка; у жителей, владельцев домой не было припасено никаких приспособлений для вывоза со дворов такой массы снега и они быстро все же достигли своей цели, сгребали его метлами в кучи, а кучи выносили на улицу на простынях, где подбирали его уже уличные рабочие. Впрочем, ведь и дворы-то их равняются по своим размерам нашим залам в домах среднего состояния. Конечно, побывал я в Луврском музее; и на площади Согла-сия; и в Елисейских полях, этой прекраснейшей из всех улиц Парижа; и у Звездной арки; и в Булонском лесу; и в ближайшем городке, старинном St. Denis ; и в Версале, когда там первого мая нов.ст. открываются все фонтаны около дворца. Парижане вообще народ прижимистый, не позволяют себе тратить деньги напрасно и открывают все фонтаны (Нептун) только один раз в год, потому что это удовольствие стоит за 1/2 часа времени, когда бьют фонтаны, 5000 франков. К этому времени приезжает такая масса народа, что нужно удивляться, как железная дорога справляется с нею. Конечно, побывал, и не один раз, и в соборе Богоматери (Notre Dame de Paris) и, что особенно важно, так это - в маленьком здании, стоящем позади Собора на том месте, где оба рукава Сены сливаются вновь в одно русло (собор и ближайшие к нему здания стоят на островке на Сене). Этот Morgue -маленькое одноэтажное здание, разделенное поперек стеклянной перегородкой, по эту сторону которой собирается публика, а по ту сторону, на столах лежат трупы неизвестных лиц, найденные в Париже и окрестностях его. Они лежат здесь в ожидании того, что кто-нибудь из родных опознает их, в помещении трупов поддерживается пониженная температура. Трупы лежат в той же одежде, в которой их нашла полиция, и было уже множество случаев, когда при помощи морга находились виновники убийств, и раскрывались многие уголовные дела. В Москве в последнее время был устроен подобный морг при здании лефортов.части. Какова судьба его теперь? В Версальском саду я помню до сих пор замечательную миртовую аллею, насаженную, кажется, еще во времена Людовика XIV-го, а когда и при каких условиях устроен фонтан Нептун и водоем и при нем - мне не могли сообщить, читать об этом тоже не пришлось, но могу сказать, что когда начали бить все фонтаны - зрелище очаровательное. Неприспособленность французских домов к зиме дала мне почувствовать себя особенно сильно в конце декабря, когда наступили настолько сильные морозы, что вода в кувшине, стоявшем у меня на рукомойнике, замерзала. Отопление у них не печное , а лишь каминное, не столько согревающее, сколько вытягивающее последнее тепло из комнаты. Я платил за свой номер пятьдесят франков в месяц, а сжигал топлива на 84 и все же мерзнул до невероятия, хотя у меня и было с собой хорьковое пальто. В это-то холодное время мне нужно было сидеть дома и писать отчет о своих занятиях для представления его в Министерство Народного просвещения, от которого я был командирован за границу. И не смотря на массу сжигаемого топлива, мне все же было холодно, и согревался я только у Дюваля, где было действительно тепло. Эти камины, которыми снабжены гостиницы, положительно не греют, так как они представляют собой одну сплошную прямую трубу, через которую во время дождя даже падают внутрь капли воды. Однажды утром наш прислужник Жан (швейцарец, потому что французы не идут на такие должности) сказал мне, что сего дня будут чистить трубу в камине, и потому нужно подождать топить его. Я выслушал это и воздержался от топки, а потом и забыл про этот разговор, но во время писания я услышал какой-то шум в камине, а через некоторое время в камине показались две маленькие почти детские черные ножки, а вслед за ними и сам человечек, одетый во все черное, лицо было тоже все черное от трубной сажи. Выйдя из камина он поздоровался со мною, сказавши “бонжур м-сье” и даже расшаркался; потом открыл бывшую у него сумку на поясе, раскрыл ее, обмел в нее сажу из трубы, привесил к поясу опять, прицепил крючок от веревки, на которой спустился из трубы, к поясу, крикнул что-то в трубу и стал подниматься вверх и исчез, точно какое-то виденье. Это все делалось для того, чтобы очистить каминную трубу. Такой способ здесь практикуется многими трубочистами. Мне потом говорили, что наши русские печи во всем Париже есть только в одном доме - в здании Русского посольства и при том сделаны нарочно присланными когда-то из России печниками, а местные печники не умеют их делать. Правда ли это или нет - не берусь судить. А вообще-то, мы, русские, переносим тамошний холод труднее, чем местное население: часто приходилось видать на улице, как разного возраста люди идут себе совершенно свободно в одном сюртуке с каким-нибудь кашне и чувствуют себя, по-видимому, хорошо, а я в хорьковом пальто иду и зябну. В номере у меня было тоже холодно настолько, что утром, как я сказал, вода замерзала в кувшине, и я вынужден был разогревать ее перед огнем в камине, а по окончании умывания наплесканная на полу тоже замерзала: катайся на коньках, если желаешь. Вода в реке Сене при мне не замерзала, может быть, благодаря быстроте течения ее, а может быть и массе пароходов, которые день и ночь снуют по ней и не дают воде успокоиться. Из Парижа я выехал через Страсбург обратно в Россию, т.е. поехал в Мюнхен, Штуттгарт и Вену. Ни в том, ни в другом городе я не останавливался, кроме того срока, в который поезда не ходят, как, например в Штуттгарте, где железнодорожный вокзал на ночь, т.е. с 8 час. вечера до 5 час. утра закрыт, и все приезжающие до 8 час. должны удаляться в гостиницы: в поездах оставаться нельзя, - пожалуйте к 5 час. утра, тогда и поедете. В силу этого пришлось идти в гостиницу и ночевать там. Хотя посмотреть на город и то не удалось за поздним временем; видел только часть знаменитого сада, в котором на каждой лавочке сидели парочки и нежно ворковали. Но мне не было никакого дела до них. Дорога до Вены по местам довольно красивая, весьма разнообразная, иногда какими-то зигзагами взбирается довольно высоко на хребты гор и постепенно спускается с них тоже зигзагами; вообще этот переезд стоит того, чтобы взглянуть на него, особенно в ближайшей к Вене части. Спутников в этом поезде было немного, и потому была полная возможность переходить в вагоне от одного окна к другому никого не стесняя. В Вену приехали утром часов около 9. Меня встретил на вокзале д-р Андрей Дмитриевич Забелин, с которым я познакомился еще в Лейпциге, и который там занимался в институте Конгейма, стараясь рассмотреть, как растут раки, а мы говорили, что он желает узнать где раки зимуют. Он уже нашел для меня и комнату в три окна на улицу, довольно большую, светлую и, конечно, чистую, по цене не дорогую, в ней я и поселился. Это было в центре города, близ Клиник и Кольцевой улицы (Ring). На завтра я был уже в клинике знаменитого хирурга Бильрота. Пройти к нему не составляет никакого труда; он благодаря своей популярности вполне доступен и не отказывает никому в просьбе посещать его клинику, а когда бывают большие операции, на них приглашаются особыми записками-бланками те из приезжих, которые оставляют у него свои адреса. Одну такую записку получил и я с приглашением присутствовать при Ovariotomia. Такие записки рассылаются не по почте, а с особым посыльным, и составляют для Вильтор предмет расхода, хотя и небольшого, но все же расхода, что венцы считают. Говорить о деятельности Вильтора не мое дело: я приехал сюда не затем, чтобы писать о нем, а чтобы поучиться у него чему-нибудь, имя же его достаточно хорошо известно во всей Европе и не только в Европе, а пожалуй и во всем свете; он, по мнению всех, занимает первое место между современными хирургами и как профессор, и как ученый; но я хочу сказать здесь, в назидание будущих, об отношении его к людям ему близким, а так же и к тем, которых он видит в первый раз. Дело вот в чем. Мы пришли в его небольшой кабинет рядом с операционной. Убранство кабинета если не убогое, то самое скромное. К стене прибита даже вешалка для верхней одежды. Нас, ожидающих его, было уже несколько человек, и между нами его ассистент д-р Вельфлер, уже имевший звание экстра-ординаторного профессора, каковым он и сделался потом в Грацком университете. Тонкий слух Вельфлера уловил какой-то особый звук, и он сразу бросился в двери и через несколько моментов шел уже позади Бильрота, сильно пыхтевшего от отдышки толстяка крепкого сложения. Присутствие в его кабинете нескольких посторонних лиц его нисколько не смутило, видно было по всему, что это у него обычное дело. Когда он здоровался с нами, Вольфлер особенно бережно снял с него пальто и повесил на крючок. Поговоривши с нами минуты две, он вдруг громче обыкновенного сказал, почти крикнул: “Вельфлер, Topt”. И этот экстра-ординатор профессор бросился к стоявшему здесь ночному столику-тумбочке, открыл в нем дверку и достал оттуда обыкновенный эмалированный ночной горшок и подставил его Бильтору и держал его обеими руками, точно какую-нибудь святыню во все время, пока тот испускал мочу. И это делалось при всех нас, хотя он не знал, кто мы такие, да если бы и знал, не все ли равно? Такая бесцеремонность в обращении с людьми была темой для разговоров во все время, пока мы обедали после ухода из клиник. А что же Вельфлер? Благодаря словам своего патрона он, конечно, сделался профес-сором, потому что такому лицу, как Бильрот, никто не решился бы противоречить. Потом мне много раз приходилось видеть в Вене низкопоклонство младших перед старшими, но чтобы оно достигало до такой степени - никогда не видал. Попробовал бы у нас какой-нибудь профессор заставить своего ассистента держать перед ним ночной горшок во время мочеиспускания, чтобы он почувствовал бы от такого приказа? А француз, пожалуй, надел бы ему этот горшок на голову. А здесь это дело в порядке вещей и никого не удивляет. Здесь мне пришлось первый раз в жизни слышать от сиделок и сестер милосердия в клиниках один и тот же возглас вместо привет-ствия: “Kuss die Hande” - целую ручки. Этот возглас обращается ко всякому из врачей, проходящему по палате, своему ли, чужому ли все равно. Обстановка в Бильротовской клинике значительно усту-пает нашим московским и петербургским, ее можно назвать даже бедной, кормление больных почти скудное, и потому больные сами не желают залеживаться в клинике и по силе возможности скоро выходят из них, поэтому обмен больных в течении года огромный. Та операция, к которой я был приглашен особой запиской, “овариотомия” - делалась до такой степени быстро и почти небрежно, что оставила у меня самое дурное впечатление; здесь не было раньше установлено того, что киста срослась с большими сосудами живота и когда оператор, освободивши от нее петли кишок, с достаточной силой потянул ее вперед, из под нее хлынул фонтан крови; и хотя помощники, в том числе и Вольфлер старались надавить на аорту через покровы живота и непосред-ственно на самое аорту, больная моментально умерла. Оказалось, что при вытягивании (совсем не осторожном) образовался боль-шой разрыв аорты, которая не могла быть перевязана. Этот случай рассматривался многими как несчастный, и оператору не ставилось в вину то, что он не посмотрел раньше, что за сращение было у опухоли, и не лучше ли было бы оставить там часть спайки при аорте, чем разрывать ее, спайку. Авторитет профессора в глазах всего народа там настолько велик, что, что бы он не сделал, профессор, все считается в порядке вещей и никто не вздумал критиковать, а тем более обвинять его в какой-нибудь ошибке. А у нас только скажи какому-нибудь репортеру, что в такой-то больнице случилось то-то и то-то, и пойдет дым коромыслом. Мой несчастный знако-мый д-р Андрей Дмитриевич Забелин из Астрахани этими репортерами доведен был до самоубийства потому, что они обвиняли его в том, что он зарезал ребенка, делая ему трахеотомию по поводу попадания арбузного семечка в дыхательное горло, и не достал это семечко. Они травили его в ежедневной астраханской газете, добиваясь унизить его насколько возможно, подорвать его частную практику; все это хлопотали врачи-жидки, ну и дохлопотались. В Вене много русских врачей, правильнее сказать приехавших из России жидов. Они берут здесь у кого-нибудь из здешних профессоров приватный специальный курс, уплачивают за это известный гонорар, получают от профессора свидетельство в том, что они в такое-то время слушали курс такой-то науки и оказали важные сведения в ней. Свидетельства подписывались профессором, подпись которого удостоверяется университетской печатью. Жидку только и нужно, чтобы у него было свидетельство с университетской печатью; он его будет показывать больным или родным его, те будут говорить, что сами видели такой диплом и печать на нем, и этого довольно, чтобы попало в руки дипломированного несколько рублей. Поэтому здесь читается масса различных специальностей: можно найти специалиста по болезням волос, ногтей, пальцев, ребер и т.д., не говоря уже о специалистах по горловым, ушным и носовым болезням. Кроме Бильрота, я посещал еще клинику Diettel‘a по андрологии и Ультцмана только лишь теоретический курс и амбулаторию. Ни у того, ни у другого я не нашел для себя ничего нового. Все то же и то же, что давно уже было слышано и видано, хотя преподносилось это вниманию не студентов, а врачей, уже достаточно подготовленных к тому, чтобы и самим быть лекторами, нужна только смелость и уверенность в том, что перед ними сидит публика, мало понимающая и знающая меньше, чем они знают. Как и повсюду за границей, в Вене я жил в частной квар-тире, снимал комнату в какой-то семье. Комната была довольно большая, светлая, с двумя окнами на хорошую улицу. Ход в квартиру, конечно со двора; но здесь уже не так как в Берлине: здесь не дают жильцу ключ от ворот (нижний ключ), а только один верхний, т.е. за возвращения домой позже 10 часов вечера изволь платить швейцару за то, чтобы он впустил под ворота. Здесь плата берется решительно за все, в том числе и за запоз-далое возвращение домой. Надо полагать, что в общей сложности такой платы наби-рается в месяц немало, если должности дворников-швейцаров постоянно заняты, а домохозяева им ничего от себя не платят, а дают им лишь квартиру, т.е. комнату, контору, в нижнем этаже поблизости ворот и требуют за то соблюдения чистоты на дворе и на улице против своего дома. Пробыл я в Вене всего один месяц и в это время посещал клинические лекции Бильрота и Дитля. Оба они вполне доступны каждому вновь приезжему, но, конечно, с разрешения профессора. Клиника Бильрота самая неблагоустроенная из всех, какие только видел на своем веку. Например, аудитория, она же и операционный зал, окнами обращена в какой-то переулок, по которому постоянно проезжают огромные телеги, издающие отчаянный стук, а если принять во внимание, что в Вене не знают, что такое зимние рамы, то конечно звук каждого проезжающего экипажа настолько резок и сильно отдается в помещении, что нужно иметь особенно чуткое ухо, что бы слышать, что читается в комнате обыкновенным голосом; а если сам чтец говорит с каким-нибудь недостатком, то, конечно, и обычные слушатели его мало что разбирают. А Бильрот страдал постоянной отдышкой и немного пришептывал. Поэтому я мало что разобрал у него. Операционный зал у него можно назвать темным, особенно по сравнению с нашими московскими клиническими залами. Места для студентов расположены, конечно, амфитеатром и выкрашены темно-серой краской, отчего кажутся погруженными во тьму. Как тут ведется дело осенью в туманную погоду, я не знаю; но весной, в мае месяце, когда я был там, там было неудобно. И несмотря на эти неудобства тут все же двигали люди науку, создавали себя. То, что они делали, служило предметом подражания для других, работавших при лучших условиях. Это видно из того, что между слушателями Бильрота была масса приезжих; не говоря уже о том, что русские здесь не перево-дились, тут были при мне и французы, и англичане, и даже американцы, словом самая разноязычная аудитория. Я был тогда лет 34-35 и между остальными слушателями чуть ли не самым старым, а остальные все молодежь, в которой преобладало племя еврейское, вероятно из колена Иуды, судя по всем ужимкам и движениям, которые сохраняются в них в течении нескольких поколений. Представившись Бильроту, я особенно просил его разре-шить мне присутствовать при производстве им овариотомии, на что он охотно согласился и велел бывшему здесь же ординатору профессору Вольфлеру записать мой адрес и уведомить меня, особой запиской, когда будет такая операция. Через несколько дней я получил такую записку. Операция производилась в той же аудитории, где читались обыкновенно все лекции и по присутствию слушавших ничем не отличалось от обыкновенной лекции, лишь мне и двум другим врачам (англичанам) предложено было занять места на ступенях, так сказать, в первом ряду. Стало быть обстановка была та же, что и для удаления пальца, если бы это понадобилось. Хлороформ лился также обильно, как и обыкновенно здесь бывает. Разрез брюшной стенки сделан там не послойно, как делают у нас, и как говориться в руководствах оперативной хирургии, а сразу через всю толщу стенки живота и лишь потом добавлял понемногу в углах. В передней стенке живота опухоль сращений не имела, но кишки где-то приросли и спайки их были частью ножницами, частью просто пальцами отделены и вся опухоль, величиной не больше человеческой головы высунулась в разрез. Бильрот захватил ее обеими руками и начал тянуть вперед, к себе, а Вольфлер подпихивал под нее края раны. Но вдруг из раны хлынула масса жидкой крови, больная побледнела и стала икать. В это время опухоль подалась Бильроту, он вынул ее и стал искать источник кровотечения, нашел его, но уже поздно, оказалось, что опухоль имела сращение с частью брюшной вены и разорвалась на большом протяжении, во время вытягивания ее. Больная конечно тут же умерла, но это нисколько не смутило хирурга: он с обычной своей улыбкой сказал только, как бы обращаясь к нам, сидящим на ступенях: что же делать? На Ваше несчастие операция прервалась неожиданно, и Вы повезете домой дурное обо мне мнение. Несчастие! Говоря это вероятно думал: а плевать мне на Ваше единичное мнение. Репутация моя настолько велика и прочна, что Ваши голоса не затенят ее. А что одной несчастной больной у них меньше - не все ли это равно. Этот случай тоже доказал мне и подтвердил еще раз, что немецкие врачи относятся к своим пациентам, а хирурги к оперируемым - до крайности легко и смотрят на них не как на больных, а как на какие-то анатомические, не то физиологические препараты. Я уже говорил о тех примерах, которые видел в Германии, то же было и в Австрии. Во время моего пребывания в Вене я часто слышал разго-воры о тамошних двух профессорах акушерах: Карле и Густаве Браунах, побывал в их клиниках и просил дать мне случай или присутствовать при наложении щипцов или еще лучше самому наложить их под руководством или их или ассистентов. Предложение мое или, лучше сказать, просьба была принята: дано разрешение за 10 гульденов посещать клинику 1/2 года и возможность наложить щипцы, о чем сказано ассистенту. Через 5-6 дней я получил дома у себя записку, в которой сказано, чтобы я шел возможно скорее в клинику накладывать щипцы, а за доставление записки уплатил бы крону, т.е. 40 коп.. Я конечно бросился немедленно в акушерскую клинику, где известный мне уже ассистент сказал мне, что вот этой женщине я могу наложить щипцы, что желание мое так скоро исполняется. Я взял в руки щипцы и уже стал на колено, чтобы ввести их, как вспомнил, что я не знаю, какое показание для их наложения в данном случае. Да никакого показания, кроме согласия самой женщины, чтобы ей помогли щипцами, и тем ускорили бы роды. Меня это удивило, что в Вене считается возможным накладывание щипцов по такому поводу, как желание роженицы, ну уж так и быть, наложу, хотя и без основания. Берусь опять за щипцы, которые положил было в сторону во время последнего разговора, но тут меня останав-ливает ассистент, кладя свою руку мне на плечо и говоря: “ Нет, подождите. Уплатите сперва 10 гульденов”. “За что?” - спрашиваю его. “А за то, что я доставил Вам случай ввести щипцы. Вы сперва уплатите, а потом и действуйте”. Тут мне стало досадно, и я ему сказал, что я уже уплатил г.Брауну и считаю, что дальнейшие платежи неосновательны, хотя бы сле-довало сказать, что они бессовестны. Положил щипцы, вынул 10 гульденов и сказал, что вводить инструмент при подобных случаях я не стану. “Убирайтесь Вы к черту со своими щипцами!”. Последнюю фразу я сказал по-русски, но бывший при этом жидок, знавший русский язык, перевел на немецкий. И что же? Ассистент ни слова не сказал и сам ушел с моим гульденом в кармане в другую палату. Этот случай дал мне повод согласиться с ходившим между русскими врачами слухами о том, что Венский медицинский факультет торгует свидетельствами на ту или другую специ-альность, на какую угодно, лишь бы желающий получить такое свидетельство прослушал специальный курс у профессора, само собой разумеется, за деньги и затем сделал бы, если по свойству курса необходимо, какую-нибудь операцию (т.е. опять за деньги) и ему выдается за подписью профессора (мздоимца) и приложе-нием печати университета свидетельство, удостоверяющее, что это свидетельство подписано действительно таким-то профес-сором, а о том, что слушавший уразумел что-нибудь из прослуш-анного - об этом ни слова. Пойди поймай его на лжи; не переэкзаменовать его и кому охота связываться и уличать во лжи, тем более, что и между нашими московскими врачами есть такие, знания которых ниже всякой критики (Ив. Ив. Корещенко), а ведь они получили свои дипломы на законном основании от факультетов. Я знал пример, что один студент юридического факультета на экзамене по церковному праву на вопрос профессора: что такое игумен, ответил с бойкостью: “Муж игуменьи.” Ведь этим ответом он показал полное свое невежество во всем церковном уставе, а все же получил тройку и, стало быть, мог окончить курс и достигнуть высоких ступеней по службе. Бывает то же и на других факультетах, пожалуй и на матема-тическом. Бывали и такие случаи, что настоящие профессора университета для получения кафедры, если им бабушка хорошо ворожила, ограничивали свою заграничную поездку с научной целью только тем, что прослушивали в Вене 6-недельный курс и возвращались оттуда специалистами по такому-то предмету, с которым раньше были знакомы очень поверхностно. Например, профессор кожных болезней Дм. Ив. Найденов, бывший акушер, написавший диссертацию о действии сюрьмянистых соединений (фармакология) попал на кафедру, благодаря сильной протекции в факультете, а изучал кожные болезни всего полтора месяца в Вене у профессора Kapos`а, о чем этот последний, не утаиваясь, говорил сам русским врачам. Вот де, как я могу скоро выучить человека. Да и один Найденов разве прошел по этой дорожке? Разве не было других? Есть этот грех и за границей, только об них говорят в минуты особой откровенности. Я знаю, что без содействия кого-нибудь из членов факультета никто еще не попал на кафедру: все дело в том, кто содействует... В Вене я часто встречался, почти ежедневно с нашим русским врачом Андреем Дмитриевичем Забелиным, с которым познакомился еще в Лейпциге, он жил здесь с женой, а раньше жили они в Париже. Насколько я способен понимать людей, я должен сказать, что Андрей Дм. был в высшей степени честный и добросовестный человек, но судьба жестоко преследовала его, чуть ли не с самого раннего детства. Он был сын новгородского священника, а известно, что в Новгороде (стром или верхнем), очень много церквей, благодаря чему приходы очень маленькие и, стало быть, прихожан мало, а отсюда следует, что и доходов у причта тоже мало. Его отец был бедняк, с большой семьей, и не мог давать сыну средства на прожиток в Петербурге во время ученья там в Академии, и он проживал в каких-то номерах, но не в отдельной комнате, а в коридоре, за дверью у коридорного, за 3 рубля в месяц. Питался он, как питаются большинство наших бедняков студентов кое-как и кое-чем, наживая с юных лет всевозможные болезни желудка и кишок; заработков у него не было никаких. По окончании курса сразу стал военным врачом и влачил свою долю с армейским полком в русско-турецкой войне в Болгарии (1877-1878гг.), а потом уже будучи в возрасте более 40 лет во время стоянки полка в Полтаве увлекся молодой институткой, почти ребенком и женился на ней. Этот-то шаг и был гибельным для него. Она была слишком молода для него, а он уже стар для нее. На этой почве пошли несогласия, а потом и раздоры. Он желал там заняться делом, а она требовала развлечений; он доставлял их ей насколько мог, но она желала удовольствий больше и больше, что превышало его и материальные и физические силы, а потому опять несогласия и опять раздоры. Он перевез ее в Вену, думая этим удешевить жизнь и переменой места развлечь ее. Не тут-то было. В одну из таких бурных сцен, он не выдержал и вечером прибежал ко мне, прося Христом Богом пойти к ним и примирить их. Мне было от души жаль его, хотя я и не надеялся на успех, так как знал всю основу этих несогласий, но все же я ушел с ним. К моему великому удовольствию и радости обоих супругов, мне скоро удалось их примирить, и они даже начали смеяться, называя меня мировым судьей. Оставил я их в хорошем расположении, говоря на прощание: “Смотрите, дети - без меня не ссориться”. На завтра я встретился с ним, спросил, каково они вели себя и он меня благодарил за то, что я успокоил их. После этого я скоро уехал в Россию, а они оставались еще в Вене. Когда я служил уже в Павловской больнице, они пробыли некоторое время в Москве, были у нас неоднократно, а потом уехали в Астрахань, где он когда-то стоял со своим полком и оттуда взят был на войну. Там у него была большая практика, был свой хороший дом и он жил хорошо; но она завела себе друга, молодого перса, который бывал у них ежедневно и не скрывал даже от мужа своих отношений к его жене. И вот однажды, в роковой день, когда Андрей Дм. возвратился домой раньше обычного срока, он застал между своей женой и ее другом такую сцену, которая возмутила даже его, все выносившего и терпеливого человека, и он, уйдя в свою комнату, тотчас пустил себе пулю в голову и моментально умер. Так прошла жизнь человека, все время маявшегося, всегда относившегося хорошо ко всем людям, прощавшего им все, что они сделали ему дурного, а хорошее они ему не делали. Получил он в детстве хорошее домашнее воспитание, и, если бы не испытывал такую нужду, то при его трудолюбии и выносливости, из него вышел бы недюжинный врач, которому может быть благодарное потомство поставило бы памятник, как они увековечили память Пирогова. Венцы хвастались мне, что у них есть замечательное учреждение - это знаменитые бани и так много говорили, что я решил побывать в них, тем более, что мне сказали, что у них есть там и паровые бани, как в России. Отправился. При входе, в кассе спрашивают, какую баню я желаю: с отоплением или без него (mit Heizing oder ohne). Я, не зная того, какая может быть баня без отопления, спросил с отоплением. Мне дали билет (конечно, за деньги) и указали куда идти. Нужно было идти во второй этаж, в особую маленькую клетку, где находилась красивая ванна, и был поставлен стул для сиденья; свободного места больше не было, почему можно судить о величине комнатки. Но где же отопление? Из повешенного на стене объявления я узнал, что отопление состоит в том паре, который я могу пустить из крана. Я стал его вертеть, послышался откуда-то шум и свист и затем из отвернутого крана стал вырываться такой пар, который скоро наполнил всю мою каморку, а кран у меня перестал повертываться. Что же мне делать дальше? Я отворил дверь на лестницу, хорошо, что не успел раздеться, и на свист пара вбежал ко мне какой-то служитель, остановил пар не без усилий и объяснил, что я должен был сперва напустить холодной воды в ванну, а потом пустить в нее пар и не отворять кран вовсю. Когда сделали так, как он говорил, вода действительно согрелась, но не так, как мне было нужно, но зато не получилось холодной воды, а в каморке было вовсе не тепло, а только сыро. В других отделениях бани еще оригинальнее: там нужно раздеваться наверху в 3-ем этаже, а мыться (но без мыла) внизу, сойдя туда по лестнице, завернувшись в простыню, и после мытья извольте опять взбираться на 3-й этаж за одеждой. Ну может ли быть что нелепей этого? И, вместе с тем, все стоит очень дорого. Не даром, в Австрии вообще, и в Вене в особенности, такая масса заболеваний кожи, как нигде, и потому-то венская клиника кожных болезней славится своим богатым материалом. Однажды вечером я с Забелиным был на загородном гулянье, в местности, называемой “Пратер”. Это очень большой парк, в несколько верст длиной, в нем проделано прекрасное шоссе со старыми деревьями, по преимуществу буками и платанами, а по сторонам его, по ту и другую стороны были узкие дорожки для пешеходной публики. По краям дорожек поставлены стулья и кресла, конечно, для сиденья. Но попробуйте сесть хотя на одно из них, сейчас же подойдет к Вам какой-нибудь человечек и в вежливой форме потребует от Вас плату за сиденье, потому что стул или кресло его и ему дано право пользоваться платой, взимаемой с публики за сиденье на его стуле. Это право правительство дает заслуженным унтер-офицерам, а иногда и вдовам-офицершам вместо пенсии. К той же мере прибегает правительство давая право нищенствовать на улице и в Пратере, играть там на скрипке или каком-нибудь другом инструменте. Гулянья в Пратере бывают ежедневно по вечерам; сюда к этому времени съезжается цвет аристократии в роскошных экипажах, и вся масса идет и едет сплошь до самого Дуная, до которого достигает парк, а потом поворачивает обратно. Дунай здесь не широк, но глубок, и по нему бегают пароходы. Не могу не отметить еще одну особенность, какой нигде нет, по крайней мере я нигде не видал: это то, что во всех домах, на каждом окне, выходящем на улицу, лежат узкие тюфячки или подушки, сделанные из трипа, обычно малинового цвета, шириной около 6 вершков, а длиной во весь подоконник. Назначение их состоит в том, чтобы смотрящий в окно мог свободно предаваться своему занятию, наблюдению за уличной жизнью в течении долгих часов, а чтобы у него не заболели локти или грудь, он может опираться на эти подушки. И действительно: после 12-2-х часов дня, когда во всех комнатах окончена уборка, почти в каждом доме можно видеть торчащую голову немки, наблюдающей за уличной жизнью. Но довольно говорить о Вене и ее обычаях и свойствах, направленных главным образом на то, чтобы вытягивать тем или другим способом копейку у ближнего и помещать ее в свой карман. Многое направлено и на простоватость туристов, почему в каждом магазине выставлены на видных местах вывески с надписью “постоянные цены”, т.е. не торгуйтесь; но я, покупая там что-нибудь, всегда торговался давая 1/3 или 1/4 того, что спрашивали и достигал своей цели, хотя продавцы и делали изумленные лица, когда слышали от меня мою цену, но все же под конец уступали. Эти свойства магазинов особенно резко бросаются в глаза на Грабене, где много торгуют всяким модным товаром. Я хотел побывать в Вене в Парламенте, но это возможно было лишь при помощи кого-нибудь из членов Парламента, а в мае месяце их уже трудно было найти, потому что масса публики постоянной уже уехали из города на летнее время. Живя в Париже я бывал не раз в Парламенте, в то время, когда там рассуждали об облегчении брака, о разводе его (Divorce), за что особенно горячо стоял депутат Hasie. Слышал я там и убеди-тельные речи Гамбетты, председателя палаты депутатов, про которого говорили, что если бы он вздумал стать королем Франции, то громадное большинство стало бы на его сторону, а не на сторону генерала Буланже, к которому все относились все же с некоторым недоверием, как к военному. Пробывши в Вене всего месяц, я возвратился в Россию. Путь лежал на станции “Граница” и на Варшаву, а оттуда на Смоленск и Москву; во время пути не случилось ничего стоящего занесения на память, и потому кончаю о своей скитальческой жизни и делаюсь оседлым человеком. В Австрии, собственно в Вене, я оставался всего один месяц; началось почти лето, и так тянуло домой, что я без всяких колебаний решился уехать отсюда. Про другие австрийские клиники мне не было не известно ничего и, стало быть, некуда было стремиться и вот, в конце мая по старому стилю я выехал в Россию через станцию “Граница” на Варшаву и без долгих остановок приехал в Москву через Смоленск. Весь этот путь я ехал в 3-м классе, потому что достаточно израсходовался в Вене, и нужно было приберегать деньги для России, особенно для Москвы, потому что дома у меня не было решительно никаких запасов, а содержание от казны давно уже все исчерпано. В Москву я приехал в очень хорошую погоду утром, часов около 10 и был бесконечно доволен, что окончилось мое полуторагодовое путешествие, хотя впереди и не предстояло ничего отрадного; нужно было брать с боя то, что наметишь сам или представится, а в это время вряд ли что могло предста-виться свободным, потому что приехавшая компания Н.В. Склифосовского (и Кузьмина) накладывала свою алчную руку на все, что плохо оберегалось и все поглощала.
Не надеясь летом найти себе, что-либо подходящее, и не рассчитывая на платную частную практику, и не имея даже квартиры в Москве (я остановился пока в гостинице “Франция” на Тверской улице), я решил лучше на лето поехать в деревню, где жила моя семья, т.е. в Путятино, что и сделал в скором времени. Сюда я захватил с собой некоторые книги, привезенные из Парижа, чтобы основательно почитать их, и между ними трактат Gugon`a об болезнях мочеполовых органов. В это время в Путятине земским врачом был мой свояк Николай Петрович Кипарисов, не большой охотник до хирургических операций, и через него мне был свободный доступ в Путятинскую больницу. Здесь попадались иногда замечательно интересные случаи хирургических заболеваний, на которые у меня чесались руки, чтобы оперировать их. Одного из них помню до сих пор. Это был молодой малый из Завидово (кажется Федор Батов). Он страдал больше года, вследствие бедренной правой кости, в которой образовался уже секвестр. Я предложил ему свои услуги; он согласился, лишь бы сохранить ногу, так как Кипарисов предлагал ему ампутировать ее. Операция была сделана в скором же времени в присутствии моего приятеля Мих. Ник. Бер, который потом удивлялся, как я мог заранее определить в кости секвестр, который оказался длиной почти во всю бедренную кость, чтобы удалить его нужно было к существующему уже отверстию в кости прибавить еще 2-3 новых, а костные мостки между ними выдолбить, чтобы сделать доступ к секвестру и свободному удалению его. А так как он и тут все еще цеплялся своими концами как бы в коробке или скорлупе, я должен был рассечь его поперек на два куска и вынуть каждую отдельно. Все прошло гладко, как по писанному, несмотря на ограниченный инструментальный инвентарь. Кроме того, оказалось нужным просверлить отверстие на задней поверхности кости, чтобы вложить туда дренаж. Полость кости была выскоблена и затомпонирована. Восполнение костной полости шло довольно хорошо, больной выздоровел, сохранив свою ногу. Теперь я вспоминал этот случай потому, что бывший больной Батов жив и до сих пор, хотя прошло уже несколько десятков лет со времени операции; теперь 1922г., а операция была сделана в 1881году. Я был в Завидове. Батов, конечно, узнал о моем приезде, как узнает с быстротой молнии все село о каждом приезжем, и пришел повидать меня и сказать спасибо за дело, сделанное 40 лет назад. Он явился для меня ходячей рекламой. В то же время, которое я провел тогда в Путятине, я делал много операций отчасти потому, что местный врач Ник. Петр. Кипарисов (мой свояк) был не охотник до этого дела, а отчасти потому, что больные, представлявшие из себя хирур-гический материал шли именно ко мне, а свояк был настолько любезен, что не мешал приему их в больницу. Припоминаю теперь, что эта Sequestotomia от начала до конца была сделана мною в присутствии моего приятеля Михаила Николаевича Бера, который раньше не видал ни одной операции. Вся она произвела на него такое впечатление, что он потом много раз сообщал о ней, как свидетель, всем родным и знакомым, превознося мое спокойствие и хладнокровие. Рассказы эти конечно не замедлили распространиться по округе и слухи, благоприятные для меня, пошли вдоль и поперек по уезду. Но я в это время уехал в Москву и не мог материально воспользоваться благами своей деятельности. |
||
на главную страницу to the head page