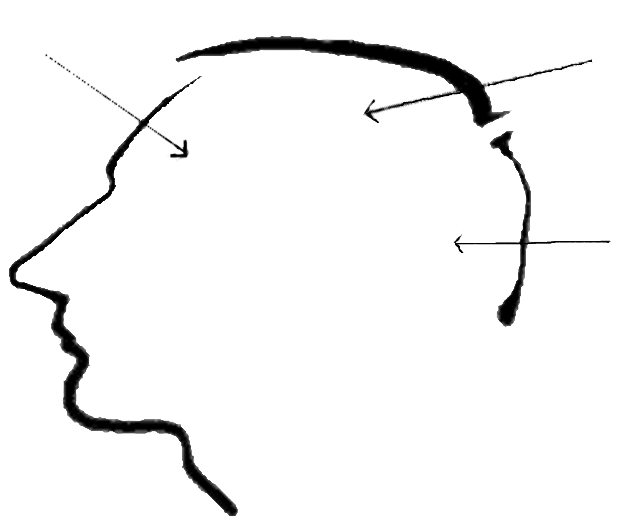 Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting.
Главная страница
- Леонид Кипарисов. Живопись,
проекты.
Head Page - Leonid
Kiparissov. Painting. |
 "Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923"
"Воспоминания Ивана Ильича
Курбатова доктора медицины 1846-1923" |
||
 |
Глава 8. Барановка. Последние годы жизни. ноябрь 1920 -декабрь 1923
|
|
|
Живу я в Барановке* с 3-го ноября 1920 года, когда приехали сюда с Митей* из Пензы, где прожил я с июня 1918 г. Когда-нибудь впоследствии, если буду жив и здоров, расскажу о том, как там жилось-можилось, а теперь начну писать со времени поездки из Пензы. Поездка эта совершилась не вдруг, а постепенно откладывалась, вследствие того, что в поезде, состоящем из так называемых “теплушек”, т.е. товарных вагонов со скамьями или нарами и без всяких в них приспособлений для езды хотя бы сколько-нибудь культурных людей, я ехать не могу и все ждал, когда можно будет поехать в классном вагоне; а попасть в такой поезд было очень трудно. Но Митя, благодаря своей энергии и многочисленному знакомству, преодолел все препятствия, и мы попали в поезд. Это случилось так: из Пензы каждую неделю отправляли два поезда с напечатанными деньгами (собственно, два вагона и стража при них), которые изготовлялись в Пензенском отделении Экспедиции изготовления государственных бумаг. Управляющий экспедицией, знакомый с Митей, обещал ему за какую-то сделанную Митей любезность, а может быть, и еще за что-нибудь, дать возможность проехать в таком поезде ему и мне. Главным образом имелся в виду, конечно, я, как человек, не могущий ехать в “теплушке”. И вот мы ждали случая три недели, справляясь каждый день - когда будет возможно ехать, потому, что сведения эти получались в экспедиции ежедневно около часа дня, а там обыкновенно говорили, что или во вторник или в пятницу можно будет ехать; а когда наступали вторник или пятница, говорили, что “нет, сегодня ехать нельзя”. Зависело это, кажется, от того, что между Пензой и Москвой, куда везли деньги, ходили одни и те же вагоны, в которые записывали заранее пассажиров и о количестве их узнавали в день выхода вагонов из Пензы. Но, наконец, желанный день наступил. В 4 часа Митя прибежал из Экспедиции и заявил мне, что в 6-7 часов поезд идет, и нам нужно быть к этому времени на станции. Конечно, сборы наши были непродолжительными потому, что все вещи мои уже три недели были собраны, сложены и ждали только упаковки их в ремни и чемоданы. Впрочем, это неверно я сказал: “в чемоданы”; никакого чемодана не было, а был довольно удобный мешок и портплед - в них-то все и увязали, конечно, с поспешностью, потому что лошадь, данная С.И. Катониным (знакомым Мите инженером, представителем Черноморского строительного общества) уже ждала нас. И вот, наконец, мы выехали со двора. Все это произошло так быстро, стремительно, что я не успел попрощаться ни с Катониным, ни с химиком Бессоновым, ни с другими знакомыми. Пришлось ехать не прямо на станцию, а сперва во двор Экспедиции изготовления государственных бумаг. Это совершенно на противоположном конце города, приблизительно верст за 5-6 от нашей квартиры. Ехали все время тихо, шагом, потому что дорога была отчаянно скользкая, а лошадь, конечно, не кована, так как в это время ковка лошади стоила уже около 20 тысяч рублей, если не ошибаюсь, и почти никто лошадей не ковал. Перед въездом во двор Экспедиции пришлось ждать довольно долго, потому что, как оказалось, в это время шла нагрузка вагонов с деньгами и происходила смена рабочих. Было уже шесть часов вечера. Наконец, впустили, но и тут задержка - надо разрешение на вход в вагоны. После многих хлопот получили и это, а до тех пор все время с вещами нужно было ждать на дворе при сильном холодном ветре. Какое счастье было, когда вошли в вагон и уселись в нем, хотя и не особенно удобно! Но счастье было непродолжительно. Комендант поезда остался недоволен тем, что мы вошли в вагон без его ведома и согласия, а только с ведома начальника охраны денежных вагонов. Между этими лицами возникли пререкания, которые не скоро уладились, и мы рисковали быть высаженными из вагона. Но, наконец, и это уладилось, благодаря любезности начальника охраны, и мы тронулись в путь, но не на Казанский вокзал, а на Сызрано-Вяземский, на котором и заночевали, а утром, уже около 8 часов нас перевели на Казанский вокзал. Во время стояния на Экспедиционном дворе наш покой был нарушен тем, что прошел слух, что неизвестно еще, как пойдет поезд из Рузаевки, т.е. - по направлению на Муром, или на Рязань. В первом случае (на Муром и Москву) наша поездка была бы бессмысленной, потому что пришлось бы много хлопотать в Москве, чтобы выехать из нее в Барановку. Все те лица, которым этим надлежало ведать, говорили только одно и то же: это будет известно лишь в Рузаевке. А до нее было 100 верст. Тут помог начальник охраны, лицо совершенно гражданское, хотя и начальник военной охраны. Он куда-то ходил, куда-то писал, телеграфировал и, наконец, принес известие, что из Рузаевки поедем на Рязань - стало быть, по тому пути, который нам нужен. Вообще этот начальник охраны и впоследствии оказался для нас каким-то добрым гением в нашем пути. Как я сказал выше, он не был военным и всей фигурой своей он напоминал юриста: средних лет, худощавый, бритый, с интеллигентным лицом, хорошей правильной речью, солидно образованный. Из дальнейших разговоров во время пути оказалось, что он действительно юрист и перед революцией занимал место секретаря петербургской судебной палаты и ему предстоит быть назначенным в Коломну на должность народного судьи. Когда все уже успокоилось, когда мы убедились, что нас не высадят из вагона и повезут по должному пути, тут только, случайно взглянув на свою левую руку, я заметил, что на пальце у меня нет золотого кольца, которое я носил постоянно. Я тотчас же сказал об этом Мите - начались поиски, осмотрели пол и около меня, и вдали от меня, даже в другом отделении вагона, куда я не заходил; попросили уборщицу вагона подмести пол и все время следили за ее движениями... но кольца не оказалось. Где я потерял его - неизвестно. Это могло произойти или дорогою во время езды в пролетке, когда несколько раз приходилось поправлять вещи, лежавшие на коленях, или дома во время одевания в дорогу. Если обронил его в этом случае, то оно должно найтись дома, и Валя сохранит его; если же потерял в дороге, то, конечно, навсегда утрачено. Раньше оно у меня никогда не терялось, кроме одного случая, бывшего в последнее время, когда я заметно похудел, и оно стало мне велико настолько, что при неосторожном движении легко соскакивало, что и случилось летом в саду во время сбора яблок. Я помнил очень хорошо, что накануне вечером собирал в саду яблоки-падалицы, помнил хорошо под какой яблоней, и, вероятно, там, бросая яблоки в кучу, обронил и кольцо. Но все поиски мои оказались напрасны: кольца не было видно; я позвал сторожа в саду, и он только спросил - под каким деревом я собирал яблоки и куда бросал их; нагнулся и сразу увидел кольцо, говоря: “Да вот что-то блестит, не оно ли?”. Действительно, оказалось оно! Рад я был бесконечно. Чтобы не потерять его еще, я обернул его много раз шерстяной ниткой, настолько, что оно с трудом одевалось на палец. Но все же впоследствии так легко соскочило, что я даже и не заметил. Видно, такова судьба его. Назавтра утром, когда мы были уже на Казанском вокзале, я рассказал об этом печальном случае приходившей нас проведать Вале (жене Мити) и она обещала подмести весь пол особенно тщательно и осторожно, чтобы поискать кольцо, что и сделала, но ничего не нашла. Ехали мы до Рузаевки довольно скоро, в поезде было не тесно, благодаря тому, что двое конвойных постоянно выходили из нашего купе, в котором они помещались, и, стало быть, освобождалось два места. Курили, конечно, невероятно много. И из всех сидящих непременно кто-нибудь ел, так что в каждый момент дня и ночи можно было найти у нас жующего. В соседнем купе вагона собралась компания, ведущая разговоры и споры на современные политические темы, причем резко бросалось в глаза то, что истые социалисты и большевики говорили довольно громко и смело, а возражавшие им и оспаривавшие их держали себя довольно скромно и не решались окончательно выска-зываться. Видимо последние были или кадеты или еще правее и сдерживались во избежание доносов. А доносы эти бывали в Пензе в большом ходу, даже безымянные. Вообще-то в Пензе не особенно много убежденных социалистов. Это видно из того, что за два года до этого времени, когда я был там, проводился опрос по анкете по политическим убеждениям, и оказалось, что из ста тысяч жителей заявили себя социалистами лишь восемьсот человек, а остальные или беспартийными или сочувствующими первым. Вероятно, они находили, что лучше назваться “сочувствующими”, нежели “принадлежащими”. Когда мы приехали уже поздно вечером второго ноября в Чучково (а выехали из Пензы 31 октября, а из своей квартиры - 30 октября), тут мы только узнали, что наш поезд не остановится на следующей станции Назаровка, где нам нужно сходить, а поедем дальше до Шилова. Конечно, нам нужно было поспешить выйти из вагона, что мы с Митей и сделали, оставивши в вагоне третью нашу спутницу - Елену Александровну Потапову - сестру Вали, т.е. Митину свояченицу. Об ней я скажу впоследствии. Раньше я почему-то думал, что Чучково - очень большая станция - буфетная, как всегда значилось в расписании. На самом же деле, она не больше Назаровки, на которой мы обыкновенно садились и выходили и которая находится от нас на седьмой версте. Здесь мы почти всегда могли найти лошадей у знакомого - живущего неподалеку старика Лаврешина, или у его брата, живущего на другом хуторе, тоже близ станции. В Чучкове же, отстоящем от нашей Барановки за двенадцать верст, у нас не было никого из знакомых. Здание станции Чучково оказалось не больше Назаровки, а вместо буфета там была лишь стойка в 2 1/2 аршина, за которой когда-то торговали водкой и селедкой. Вся комната была набита народом, который и лежал и сидел прямо на полу, потому что не было ни скамеек, ни стульев; освещение состояло из одной очень маленькой (керосиновой) лампочки, которая не столько светила, сколько коптила, и весь воздух был насыщен особыми испарениями, так что невольно вспоминались слова поэта: “Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет”. Но вместо слова “пахнет” я бы поставил другое, более сильное выражение. Митя какими-то судьбами достал мне в конторе стул, поставил его за стойкой, усадил меня за ней, и там я просидел до утра, а на стойке были нагромождены мешки и узлы. Вся бывшая тут публика сидела с утра, ожидая поезд из Москвы на Сасово и дальше. Что тут было - трудно представить! Думаю, что если бы рассказывать обо всем том, что тут было, - в каких условиях находились люди и чем они дышали, - рассказать об этом англичанам, то, наверное, слушатель сказал бы, что все это или фантазия - в духе Жюль Верна, или бред больного воображения. Когда на рассвете я выходил во двор станции, где был мороз и ветер - стало быть, и чистый воздух, я невольно подумал, что вышел из смрадной могилы, в которую нужно возвращаться снова. Наконец дождались мы рассвета, и в 8 часов утра пришел поезд из Сасова. Прибыла новая масса народа, голодного, холодного, озлобленного медленностью движения поезда. Осо-бенно поражал меня своим раздражением какой-то человек, напоминающий своим видом артельщика, лет около 50-ти. Он страшно досадовал на медленность, прозяб и говорил, что этот поезд, с которым он приехал, шел от Сасова 12 часов, т.е. делал по 2 1/2 версты в час; а если бы он шел пешком, то прибыл бы сюда гораздо раньше. Почти то же, но в более крепких выражениях говорили и остальные. Но что же было делать нам? Митя переговорил с тем-другим около станции, и, наконец, нашелся человек, который согласился отвезти нас в Барановку, конечно, на одной лошади и в простых санях, за 7 тысяч рублей и фунта 3 или 4 соли, которая тогда расценивалась тысячи по 2 за фунт. И вот, через 2 часа, т.е. около 10 часов утра мы двинулись из Чучкова. Дорога была не из важных, лишь кое-где был мерзлый снег в колеях между бороздами в полях, а остальное - все замерзшая и отчасти лишь отполированная грязь. Конечно, лошадь всю дорогу шла шагом, и наш возница шел или около нее, чтобы облегчить ей тяжесть, или шел позади нее, все время браня существующие порядки, дороговизну, а особенно то, что с мужиков начали сбирать насильственно разные пищевые продукты, как то: муку, овес, масло, картофель, платя за них очень мало и относясь к собранному небрежно, вследствие чего масса этих продуктов непроизводительно гибла или расхищалась теми, кто приставлен был к ним для хранения. Так как мы давно здесь не были и не знали теперешние нравы здешних людей, то, опасаясь, не говорит ли с нами провокатор, всю дорогу отмалчивались; но потом уже, когда были дома, узнали, что он был обыкновенный человек без всякой политической окраски, просто озлобленный на то, что отнимают у “мужиков”. Эти распоряжения очень им не нравились. Совсем другое дело, когда отнимали мужики у господ и купцов. Тогда они смеялись, гоготали и ломали все и вся - ломали мебель, рвали книги, уводили скот, расхищали корм для скота и все это считали в порядке вещей и вполне законным. Даже уничтожали дома и все постройки. Я все же не мог утерпеть, хотя Митя и держал меня за рукав, чтобы я молчал, и спросил его: “А как же мужики тащили и ломали все у помещиков и купцов?”. На это он ответил обычною здесь фразой: “То-то мы дураки! Разве мы что понимали? ... Тут ведь ходили всякие подстрекалы, говорили нам - “Берите все, что хотите! Все ведь это ваше, нажитое помещиками не законно - а воровством! Они кровь вашу и дедов ваших пили, на костях ваших дома свои строили”... Вот ведь что говорили! И их никто не останавливал, все властители разбежались или попрятались. Мы думали, что все это правда! Вот она глупость-то и жадность наша! А теперь-то мы видим, что нас обманули. Что будешь делать?!”. С такими разговорами мы доехали до Барановки. Раньше мне никогда не случалось бывать в ней зимой, а теперь я видел ее в первый раз в зимний день - и какой же печальный вид она представляла! На дворе не видно ни одного животного, тогда как раньше, когда приезжал я сюда летом, всегда был встречаем лаем собак - не одной, а двух или трех; на дворе всегда ходила какая-нибудь животина, показывался кто-нибудь из людей из той или другой двери, на дворе было чисто, опрятно. А теперь что? Полное отсутствие всяких звуков, мертвая тишина; кое-где кучи сора, рига не заперта, дверь ее поломана, изгородь изломана и не вся она есть - очевидно, растащена; наконец, в довершение всего, - отсутствие амбара. Оказалось, что его вынуждены были продать за 30 000 рублей на снос. Крыльцо, к которому подъехали, частью изломано, частью покосилось. Одно окно у кухни забито досками за отсутствием рамы и стекол. Вид печальный... Но вот мы вошли в сени. Нас встретила мама*, вышедшая из кухни; конечно, обрадовалась, поднялись крики радости и восторга. Начались рассказы о разных притеснениях со стороны властей, несправедливости их. Постоянно упоминались имена Кузьки, Трошки, Ваньки и т. д. Сообщалось о разных невероятных проделках их, грубости, насилиях и проч. Все это было до того ново и неожиданно, что я просто был ошеломлен. Кроме мамы в доме жили еще: Нина* с двумя сыновьями (Митей и Виктором) и в отдельной комнате пристройки - женщина Груша с дочерью, когда-то бывшая у Нины прислугой. А в большей половине дома, с парадного крыльца - жил местный ветеринар Дм. Степ. Дмитриевский. Он занимал лучшую, большую половину дома и обе верхние комнаты, так что на нашу долю остались лишь две комнаты - одна окнами в сад, а другая - на двор, и часть темного коридора между ними. Коридор стал темным вследствие того, что его перегородили поперек поставленным шкафом, и, стало быть, одна половина осталась у нас, а другая - у Дмитриевского. Что это за семейство Дмитриевского, расскажу впослед-ствии, когда лучше узнаю, а теперь могу лишь сказать, со слов, конечно, других, что жена его Агриппина Кононовна, молодая хохлушка из духовного звания, лет на тридцать или около того моложе своего мужа. Она уже вторая жена, имеет ребенка лет около двух. От первой жены у него пятеро детей, из которых старшей дочери лет 17-18. Свою первую жену он застрелил на глазах у родных, объясняя свой поступок ревностью, так как она ни за что не хотела возвращаться к нему из-за его характера. За это он содержался сколько-то времени в психиатрической больнице на испытании, был судим и оправдан. Эта теперешняя жена его тоже уходила от него, но после его усиленных просьб возвращалась. Вообще же семья производила впечатление “невысокой марки”, как выразился Митя. В дальнейшем жизнь представлялась невидной, скорее напоминающей могилу, в которую я заживо опустился. Знакомых, живших по соседству, здесь не осталось. Семейству И.Ф. Мейснер запрещено даже жить в Рязанской губернии, усадьба его совершенно разрушена, имущество все разграблено. Мария Федоровна Эмме умерла от оспы у кого-то из родных около Рязани; усадьба ее разграблена, но дом - совершенно новый - не разрушали. От Протасьевых остались только две сестры - Екатерина Дорошенко и Ольга Васильевна, всегда влачившая жалкое существование, бывшая в семье какой-то отверженной. Мужчин Протасьевых никого не осталось, так как последний из них, Валентин Всеволодович, застрелился, не вынеся того порядка вещей, который установился с дней революции. Что сделали с домом Н.Н .Бер, трудно представить; вместо прежней чистоты, опрятности, удобной мягкой мебели в бывшем кабинете Н.Н. была грязь, нечистота, сор, рваная и ломаная мебель, на письменном столе лежал грязный валяный сапог. В таком виде я застал эту комнату, когда приезжал к жившему в ней какому-то Гаврилову, председателю районной конторы. Этот Гаврилов был в то время болен, почему и пригласил меня; а раньше он был, как сам мне сообщил, совсем неважной птицей, просто-напросто мясником - приказчиком в городе Сапожке. Он вел здесь крайне нетрезвый образ жизни, был ежедневно пьян от самогонки, которую распивал с другими советскими служащими и председателями. Вообще, подбор служащих был самый невозможный и оставлял желать много лучшего. Некоторые из них с уголовным прошлым, а другие попали под суд уже впоследствии - в ЧЕКУ В числе последних был и Гаврилов, и сын Семена Ивановича Новинского, который отсидел несколько месяцев в тюрьме за участие в убийстве, тоже должностного лица. Гаврилов был отстранен от должности и заключен в тюрьму за кражу 800 пудов ржи, которую, как начальник, даром размолол на чернослободской мельнице, а мука ценилась в то время выше 150 тыс. рублей за пуд. 120 миллионов куш! В остальных комнатах дома Бер тоже поместились разные советские учреждения, а на долю хозяйки - Марии Алексан-дровны остались всего лишь две комнаты. Все эти советские учреждения, по-видимому, никогда не подметались, конечно, не проветривались и пропитались от дыма махорки. Мебель в них взята была, конечно, у бывших хозяев, но так как те лица, которые распоряжались ею, не знали или не понимали ее назначения, а обращались с нею по своему усмотрению, то, конечно, она в скором времени пришла в неузнаваемое состо-яние. Так же распорядились “граждане” (как теперь зовут мужиков все и сами себя - они) и с нашим домом и усадьбой. Описать подробно все покражи и поломки, которые произведены у нас, невозможно, но вкратце скажу следующее. Вся усадьба наша была обнесена изгородью, через которую не могла проникнуть ни одна крупная животина, а сад и огород, кроме того, обнесены были забором из стоячего хвороста настолько плотно, что через него не могла пройти даже курица. В день моего приезда от этого последнего забора остались лишь следы в виде отдельных палочек, а остальное все было разобрано, как говорили мне, какой-то бабой Татьяной, жившей у нас в усадьбе; она употребила их на топливо. Множество берез, довольно толстых, росших в самой усадьбе, особенно со стороны сада, было срублено, и от них остались лишь пеньки от 1/2 до 1 аршина высотой. Очевидно, рубивший их не желал даже нагнуться, чтобы срубить дерево, а делал это как ему было удобнее. Не были пощажены и дубки, которые я все время хранил и очищал от сухих сучьев и от лишайников и мхов. Их срублено столько, что из них можно бы было сделать если и не целую, то половину избы - нижнюю, что, говорят, и сделано одним из советских сторожей, тоже живших в нашей усадьбе (Гвоздиков). Лошади, конечно, были сведены, корова и телята тоже; куры - больше 30, утки больше 25 тоже взяты; вместе с ними взяты и 10 уток, довольно крупных, породистых, которых незадолго до нашего отъезда отсюда купила Катя у Шигаевского мельника. Не оставили даже и собак - их тоже увели; не могли увести большую старую собаку Тузика - так ее отравили обычным здесь способом, состоящим в том, что собаке дают большой ком хлеба с закатанной в него иглой; от такого подарка собака неминуемо погибает через несколько дней, а до тех пор ужасно страдает и, конечно, не несет свою сторожевую службу. Из сарая взяли все, что там было, а было в нем очень много, в том числе и 5 1/2 тысяч штук кирпича, заготовленного на ремонт фундамента дома; кирпич этот продавался тут (в современных ценах) по 25 рублей за штуку. Там же было много заго-товленного теса, которого теперь и следа нет, досок; были плуги, железные бороны, тележки, телеги на железном и деревянном ходу; был ольховый тес, липовые и дубовые доски. Словом, сложен был полный сарай всякого добра, и ничего из всего этого не осталось. В риге было сложено отличного корма на одиннадцать голов (пять лошадей и шесть жвачных вместе с телятами); там же было много колоса, мякины, а около риги - большой омет ржаной соломы от 44 копен; корм состоял частично из лугового и садового сена, вики с овсом, хорошо убранного клевера. Кроме того, на клеверном поле, около леса стоял целый стог клевера в 70 копен. Все это увезено гражданами-товарищами вместе с хлебом, бывшим в амбаре на целый год, до нового урожая (32 пуда муки и 55-56 пудов ржи). Из дома растащено все то, что не было приделано к стене или к полу, за исключением двух шкафов и моего мягкого большого кресла, наподобие вольтеровского. Стало быть, исчезли вся мебель, посуда, лампы, подсвечники, одежда со стен и из корзин, которые были завязаны даже проволокой, много город-ской сбруи... и, в довершение всего, исчез гербарий растений, собранных Колей* во время его экспедиции в Сибирь и в Манч-журию вместе с американским профессором Гансеном. Все растения были строго распределены и довольно хорошо сохра-нились на больших листах тонкой бумаги, годной для курения, что, вероятно, и соблазнило воров. Впоследствии в нашем доме короткий срок помещалась школа и успела загадить дом так, что приходилось освобождать его от нечистот лопатами и метлами. Конечно, от медикаментов, которые я давал совершенно бесплатно, не осталось ничего, и самый шкафчик с ними, висевший на стене, пропал. Так отблагодарили меня добрые соседи за все то мирное отношение, которое я проявлял к ним, за то пособие врачебное, которое я по мере сил и средств оказывал им бесплатно. У ближайшего соседа, Кипарисова, сделали еще проще - сперва раскрали все, что было в доме, а затем по распоряжению Совета свезли и дом и все постройки при нем: избу, сарай, конюшню и погреб, а колодезь - сверху разобрали сруб, а дальше забросали всякой дрянью. А теперь, когда приходится говорить с кем-нибудь из соседей (мужиков), я спрашиваю: зачем они меня разорили? Что я сделал им такое, за что следовало бы меня так жестоко наказать? На это всегда один и тот же ответ: “Да ведь это не мы делали, это все из других деревень. А мы-то стояли за вас вот как!.. Да что сделаешь с народом?!”. Говорят это и те, у которых есть мои вещи, например, беженец Иван, сидевший от Совета сторожем на нашей усадьбе и недавно (весной 1921 года) приходивший ко мне лечиться. У других соседей тоже все было разорено до основания, разобраны даже фундаменты строений, как например, у Ел. Сем. Долотовской, которой имение перешло по духовному завещанию от тетки, княгини Ел. Александровны Путятиной. Отец последней, Ал. Сер. Бырдин - во время крепост-ного права был 30 лет управляющим в соседнем селе Чучкове, в имении кн. Меншикова и беспощадно порол мужиков, совер-шенно дикий и необузданный народ. В этом случае, может быть, было и мщение за дедов, так как со времени уничтожения крепостного права прошло уже около 70 лет. Говорят, что будто бы тут примешивалось еще и мщение лично к Ел. Семеновне за то, что она не доверяла мужикам ничего, считая их всех ворами (на то были у нее основательные причины), и никогда не рассчитывалась правильно за работы, а удерживала у каждого копейки и даже гривенники. У нее уничтожили, т.е. попросту зарезали знаменитый породистый скот, известный в России даже в научном сельскохозяйственном мире, судя по словам Н.П. Червинского, читавшего зоотехнию в Киевском политехникуме. Производителя она покупала за очень большие деньги в Швейцарии, куда ездила по мере надобности. Порезанный скот, конечно, ободрали, и мясо разделили между собой граждане. То же сделали и с овцами. И находили, что все это хорошо и в порядке вещей. С владельческими и казенными лесами начали, было, распоряжаться тоже беспощадно, но по распоряжению из Москвы это скоро сократили; но все же многие успели навозить себе массу бревен и дров. У некоторых дворов на улице сложено столько дров, что их хватило бы, вероятно, года на два. Тут же сложены и бревна, все хорошие, на большие даже постройки, а не только на избы. А сколько появилось в каждой деревне новых изб, построенных безо всякой надобности даже теми лицами, у которых есть еще довольно хорошие все вообще постройки и совершенно новые амбары. Теперь эта вакханалия с лесом прекратилась, и за каждую порубку берут большой штраф и сажают в острог. А пока этого распоряжения не было, уничтожена масса леса. Например, у нашего соседа Вас. Ив. Зеленина ежедневно работали сорок пил в лесу. Сколько они погубили деревьев и какую громадную площадь совершенно оголили безо всякой в том нужды! Надо принять еще во вни-мание, что некоторые граждане рубили лучшие деревья, на выбор, которые при падении, конечно, ломали молодняк, портили их. Так было, кроме Зеленина, и у Шмелева, и в Казенном роскошном лесу. Следы короткой вакханалии все налицо и, конечно, непоправимы. В первый же день по прибытии нашем в Барановку явился к нам представитель местной власти в лице Василия Алек-сандровича Новинского и поздравил с прибытием. Раньше я знал его мальчишкой, а теперь это уже совершенно взрослый человек, гражданин, говорящий какой-то особенно вычурной речью, с примесью множества иностранных слов, заимствованных из современных политических речей - тут были и “декреты”, и “мандаты”, и “делегаты”, и “ордера” и многое другое. Все учреждения назывались сокращенно: “губисполком”, “уис-полком”, “наркоматы” и прочее. Он же мне рассказал, что за несколько дней до нашего приезда здесь был убит неизвестно кем и с какой целью наш сосед Ник. Ив. Зеленин (брат Вас. Ив.), служивший в каком-то учреждении, на обязанности которого лежал розыск и поимка дезертиров. Так как он относился довольно рьяно к своим служебным обязанностям, то, может быть, это и послужило поводом к его убийству; а может быть, что убийство было совершено и по ошибке милиционерами, принявшими его за дезертира, тем более, что он имел весь внешний облик и одежду, и даже лошадь - точно такие же, какие были у одного дезертира, которого искали, ловили и никак не могли поймать. Убит он был на дворе усадьбы М.Ф. Эмме, перед самым крыльцом дома. Здесь его нашли в скором времени по выезде из дома (он был сосед Эмме), лежащим на земле с раздробленной головой. Выстрел был, по-видимому, разрывной пулей, потому что череп его оказался совершенно развороченным. Он постоянно возил с собой какие-то документы, которые были с ним и на этот раз, но их при нем не оказалось, и карманы были все выворочены. Очевидно, делался обыск. Впоследствии этот дезертир (не помню его имени), живший до службы в Пласти-кове, тоже был убит, кажется, милиционером. ...но он, вероятно, был не робкого десятка человек. С ним был такого рода случай. Во время его отсутствия к нему в избу явился отряд милиции с целью арестовать его, и начали делать обыск и, когда копались в подполе, приехал он сам и, узнавши о гостях от выскочившей к нему на улицу жены, что у него делается обыск, он запер избу снаружи так, что выхода из нее не было, и начал стрелять в окна, надеясь попасть в кого-нибудь из находившихся там, но, конечно, желаемого результата не было, хотя он и сделал около 30 выстрелов. В него тоже стреляли милиционеры. Но тоже не попали. Расстрелявши все патроны, которые у него были, он сел на лошадь и ускакал неизвестно куда, а впоследствии исчезла из дома и его жена. Потом оказалось, что он скрывался в бывшем Чучковском лесу, в одной из землянок, построенных для рабочих во время разработки леса. Там он жил со всеми удобствами и там же помещались у него и лошади. Землянка эта находилась лишь в нескольких саженях от сторожки, в которой жил сторож, - он должен был знать, что у него есть сосед, а может быть и - кто именно. Там у него было много бутылок со спиртом и большой запас пищевых продуктов. Сейчас я вспоминаю его фамилию - это был Огольцов. Говорят, что он был в сношениях с Антоновым, который наводил тогда ужас на здешнюю и соседние округи своими сильными набегами и беспощадными расправами с советскими властями. Имя Антонова было окружено каким-то легендарным ореолом. Рассказывали, напри-мер, о том, что на какой-то станции железной дороги был отряд вооруженных красноармейцев с целью, будто бы, изловить Антонова. И в то время, когда половина отряда была вне вагонов (а всего их будто бы было около 400 человек), кто-то крикнул: “Антонов идет! Антонов идет!...” — и весь отряд разбежался, побросав винтовки, кто куда. Что-то неправдоподобное, но выдавалось за верное. Говорили, что будто бы Антонов живет где-то в Можарском лесу, но меняет пристанище, что у него войска несколько тысяч человек. А как такую массу укрыть и пропитать, особенно зимой? Когда были такие разговоры, никто из рассказчиков об этом не подумал. Но что имени его боялись, это видно уже и из того, что произошло 9 мая старого стиля, в Николин день, в селе Строевском. По случаю храмового праздника у какого-то начальствующего лица была пирушка, на которой находилось много начальствующих лиц. Во время пирушки было получено известие из Путятина о том, что передовые отряды Антонова идут от деревни Косоротовки (у самого Можаровского леса) на село Романовы Дарки, а, стало быть, оттуда недалеко и до Строевского. Как только прочли это известие, пирушка моментально прекратилась, все собрание разбежалось, причем быстрее всех бежали власти; стали быстро слать распоряжения о том, чтобы было заготовлено несколько подвод для убега властей, чтобы вокруг села был ночной конный караул человек в десять, который зорко бы следил за каждым проходящим и проезжающим и обо всяком сомнительном человеке немедленно доносил куда следует. Вообще жизнь здесь, т.е. в Барановке зимой была очень скучная и грустная. Вставали вместе с рассветом и ложились спать часов около 8 или 9 вечера, отчасти потому, что не было керосина и лампы; а когда добыли керосин, разбилось стекло у лампы и она стала не столько светить, сколько коптить. Однооб-разие жизни было убийственное, оно нарушалось лишь тем, что приезжал кое-кто, как, например, - Кипарисов с Мишей и Катей*; была Ниночка Бер (внучка), заходил Зеленин и другие лица, да разнообразилось еще приходящими больными, но они бывали, конечно, с утра, а после обеда я окончательно не знал, что мне делать. Читал я здесь все, что только попало, но глаза утомлялись, приходилось оставить книгу и курить, курить... Так прошло дело до весны, когда дни стали больше и вокруг потеплело, и появилась надежда на скорое оживление природы, а вместе с тем и надежда на улучшение жизненных условий. Но приходившие вести разочаровывали в последнем; надвигалась картина голода, что и оказалось с ранней весны. Дороговизна дошла до того, что с нас спрашивали 300 тысяч рублей за то, чтобы вспахать, сдвоить, разборонить и засеять нашим овсом одну десятину земли и забороновать зерно. Мы долго не могли найти того, кто бы сделал это, но, наконец, нашлись двое из села Матчино (Герасим Иванович Кривов и Степан), которые согласи-лись за 100 тыс. рублей обработать половину десятины. В преж-нее время обработка десятины стоила рублей 8 и во всяком случае не больше 10 рублей. На посев этого овса мне дали семян из железнодорожного комитета, где я состоял уже на службе в должности врача при амбулатории (при крахмальном заводе бывшем Голиковой). Дали мне заимообразно шесть пудов и потом сказали, что это, вероятно, останется за мной навсегда. Посеяли вследствие долгого промед-ления довольно поздно, а так как ни в апреле, ни в мае не было дождей, то всходы и рост овса были очень плохи, а потом начали ходить в поле еще корова ветеринара, жившего в нашем доме вопреки нашему желанию, телята и даже лошади с соседней деревни Выдерги. После таких посетителей, конечно, осталось немногое, и на нашу долю по обмолоте пришлось “шишь”. Вообще, хозяйство наше за это лето было нищенское и, если бы я не получил место на Голиковском заводе, то не знаю, чем бы мы могли просуществовать, потому что ни денег, ни соли, ни муки не было, а приношения больных были совершенно недостаточны. Но случай помог создаться этому месту, и оно устроилось лишь лично для меня. Думаю, что если бы на моем месте был кто-то другой, то и места этого не было бы. А случай этот состоял в следующем. Весною, во время усиленного таяния снега, когда в наших оврагах была вода, мне прислал письмо Иван Александрович Новинский, лесничий при теперешних порядках, живший в д. Выдерге, стало быть, по другую сторону оврага. В письме он спрашивал меня, какие меры нужно предпринять по поводу его заболевшей жены, и описывал все признаки ее болезни. На основании письма, насколько оно было убедительно, я заподозрил у нее abortus и написал, что нужно делать, и послал термометр и даже кое-какие лекарства; написал также, чтобы пригласили акушерку и прочли бы ей написанное мною. Так все и сделали. Результат получился эффективный. Все остались довольны, больная скоро поправилась. В скором после того времени за мной приехал Алексей Михайлович Воронцов, заведующий разработкой леса от Лесного комитета Московско-Казанской железной дороги, контора которого помещалась поблизости от нас, на заводе Голиковой. У него болел племянник Дм. Гавр. Юрин, живший в Путятине. Болел он воспалением легкого на туберкулезной почве. Я нашел нужным отменить все многочисленные лекарства, которые ему давались, а оставил только небольшие дозы хинина и хорошую диету. И здесь результат был хороший. Через неделю, когда я опять был у него, он мог уже встать, а скоро начал и выходить из дома. Стало быть, и Новинский, и Воронцов были на моей сто-роне, как благодарные за своих близких. Затем как-то Антонина Николаевна была у Новинского, попала к нему во время приезда комиссара Лундена, по случаю визита которого был обед, и за обедом они договорились, что хорошо было бы, если бы при Лесном комитете был свой врач для рабочих по лесному делу, служащих комитета и их семей, и тут же решили, что это надо сделать и вскоре сделали. В апреле я получил уже официальную бумагу, в которой сказано было, что я назначаюсь с 1-го апреля заведующим амбулаторией при Назаровских разработках Лесного комитета (Желлескома), буду получать, кроме денежного довольствия, и паек на себя и членов моей семьи. Так как ходить на Голиковский завод я не могу, хотя он от меня не больше как в 3 1/2 верстах, а лошади у меня нет, то договорились, что будут присылать за мной один раз в неделю (по субботам) непременно 4-колесный экипаж, а не 2-колесный одер; имелось в виду, что впоследствии оборудуем амбулаторию как следует. Так началась моя советская служба. С 1-го апреля 1921 г. я на службе, получаю жалование, получаю паек, что особенно важно, так как в состав него входят мука, соль, овес, керосин, спички, а может быть будет и мануфактура - все такое, что необходимо и ценится теперь очень дорого. Мука, например, которую я получил на себя и семью, продавалась в это время по 180-200 тысяч рублей за пуд; а я получил ее более пуда за месяц. Соль ценилась по 1,5 -2 тысячи за фунт, а мне дали ее больше пуда на месяц. Стало быть, вознаграждение довольно хорошее, а труд мой состоял в том, что я был на заводе лишь три раза и принял там не более 10-12 человек. Несмотря на свою слабость и преклонный возраст я мог бы занимать и несколько подобных мест. В последнее время до меня доходили слухи и разговоры о том, что будто бы с целью привлечь на службу и удержать на ней инженеров и врачей, решено в Москве прибегнуть к довольно решительной мере, а именно: выдавать жалованье в 100 раз больше, чем теперь, т.е. я стал бы получать не 5-6 тысяч в месяц, а 500-600 тысяч, т.е. больше полумиллиона рублей! Хотя рубли теперь стоят очень дешево, но ведь их очень много. Если поживем - увидим. Потом, примерно через месяц, оказалось, что сообщивший мне эти сведения махнул чересчур шибко. Цифра выходила, по словам сведущих лиц, вот какая: по расписанию о денежном вознаграждении с прибавкой к нему 50% за что-то, мне следовало бы платить около 7 тысяч в месяц, а персонального увеличения еще в 9 раз (а не в 100!), т.е. всего 63 тысячи. Теперь я не знаю, сколько именно я буду получать. Дело должно будет разрешиться при выплате жалованья за август месяц - тогда выяснится и цифра, и место выдачи. Мне объявлена копия постановления губернского отдела здравоохранения, что лица врачебного персонала будут получать денежное довольствие из главной бухгалтерии, т.е. из Рязани что ли? Сколько времени я прослужу там - видно будет. Во всяком случае, вероятно, недолго, потому, что люди моих лет служить долго не могут. Теперь начинают говорить, что это учреждение, при котором находится и медицинский пункт, т.е. Железнодорожный Лесной комитет просуществует лишь до июля 1922 г., а затем, за выработкой всех лесов по соседству с полотном железной дороги, комитет должен будет прекратить свою деятельность. Теперь же эта деятельность расширяется так, что у Комитета открывается еще новое дело, а именно: при станции Назаровка устраивается лесопильный завод. Он и раньше здесь был и действовал, но наступило время разорения, попал в ту же колею и завод, и дело его стало. Около месяца тому назад бывший владелец завода Назаров отправился в Рязань хлопотать о том, чтобы ему возвратили завод, и этим, кажется, открыл глаза предержащим властям на это дело: они схватились за эту мысль и решили, что сами будут вести дело. Ведь они за все берутся, за что угодно, но только странная судьба их преследует: все предприятия, за которые они принимаются, дают им довольно большой убыток, но так как деньги на предприятия - не ихняя собственность и они не отвечают своим карманом ни за какие убытки, то их ничто и не смущает. Конечно, и тут, около предполагаемого завода, будут кормиться многие. Здесь будет, вероятно, заведующий заводом, при нем контора тоже со своим заведующим, будет и казначей или кассир, будет и бухгалтер, и писцы, и сторожа, и хранитель склада. Все они будут получать жалованье тысячами, паек на сотни тысяч в месяц, бесплатную квартиру с отоплением и бесплатный проезд по железной дороге. То есть получится самое беспечальное житье, к которому стремятся многие. Однако, я заговорил совсем не на ту тему, на которую начал писать, т.е. свои воспоминания; а это скорее выходит похожим на дневник - описание современных, близких мне событий из окружающей меня местности; но это случилось как-то само собой потому, что я на старости разболтался. Теперь вижу, что надо надеть на себя узду и остановиться, а затем продолжать по порядку описывать университетскую жизнь.
|
||
на главную страницу to the head page